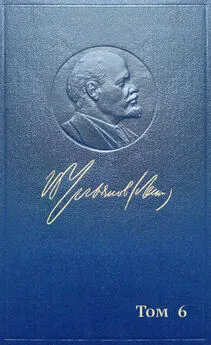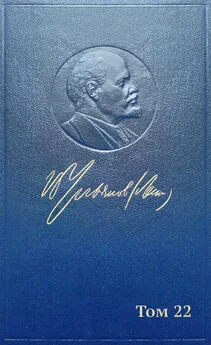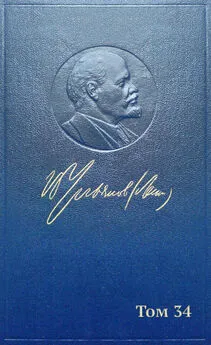Владимир Ленин (Ульянов) - Полное собрание сочинений. Том 26. Июль 1914 — август 1915
- Название:Полное собрание сочинений. Том 26. Июль 1914 — август 1915
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство политической литературы
- Год:1969
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Ленин (Ульянов) - Полное собрание сочинений. Том 26. Июль 1914 — август 1915 краткое содержание
Двадцать шестой том Полного собрания сочинений В. И. Ленина и ряд последующих томов включают произведения, относящиеся к периоду мировой империалистической войны. В настоящий том входят работы, написанные Лениным в первый год войны – с июля 1914 по август 1915 года.
Полное собрание сочинений. Том 26. Июль 1914 — август 1915 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
III
Вторую эпоху или «сорокапятилетнюю полосу» (1870–1914), по выражению А. Потресова, этот последний характеризует очень неполно. Такой же неполнотой страдает характеристика этой эпохи в немецком сочинении Троцкого, хотя последний не соглашается в практических выводах с А. Потресовым (что должно быть отнесено к преимуществу первого над вторым) – причем обоим названным писателям едва ли не остается неясной причина известной близости их друг к другу.
А. Потресов пишет про эпоху, которую мы назвали второй или вчерашней:
«Детализованная ограниченность работы и борьбы и всепроникающая постепеновщина, эти знамения эпохи, возведенные одними в принцип, для других стали привычным фактом их бытия и, как таковой, вошли элементом в их психику, оттенком в их идеологию» (71). «Ее (этой эпохи) талант планомерно-выдержанной и осторожной продвижки вперед имел своей оборотной стороной ярко выраженную неприспособленность к моментам нарушения постепенности и к катастрофическим явлениям всякого рода, во-первых, и, во-вторых, исключительную замкнутость в круге национального действия – национальной среды» (72)… «Ни революции, ни войн» (70)… «Демократия тем успешнее национализировалась, чем больше затягивался период ее «позиционной борьбы», чем дольше не уходила со сцены та полоса европейской истории, которая… была полосой, не знавшей в сердце Европы международных конфликтов, а стало быть, и не переживавшей волнений, выходящих за пределы национально-государственных территорий, не ощутившей остро интересов общеевропейского или мирового масштаба» (75–76).
Основной недостаток этой характеристики, как и соответствующей характеристики той же эпохи у Троцкого, состоит в нежелании видеть и признать глубокие внутренние противоречия в современной демократии, развивавшейся на описываемой почве. Выходит так, как будто современная демократия данной эпохи оставалась единым целым, которое, вообще говоря, проникалось постепеновщиной, национализировалось, отвыкало от нарушений постепенности и катастроф, мельчало, покрывалось плесенью.
На самом деле так быть не могло, ибо наряду с указанными тенденциями действовали, неоспоримо, иные, противоположные тенденции, «бытие» рабочих масс интернационализировалось, – тяга в города и нивелировка (выравнивание) условий жизни в больших городах всего мира, интернационализирование капитала, перемешивание на крупнейших фабриках населения городского и сельского, туземного и инонационального и т. д., – классовые противоречия обострялись, союзы предпринимателей тяжелее давили на союзы рабочих, возникали более острые и тяжелые формы борьбы в виде, например, массовых стачек, росла дороговизна жизни, невыносим становился гнет финансового капитала и пр. и пр.
На самом деле так не было, – это мы знали достоверно. Ни одна, буквально ни единая из крупных капиталистических стран Европы в течение этой эпохи не была пощажена борьбой между двумя противоречивыми течениями внутри современной демократии. Эта борьба в каждой из крупных стран принимала иногда, несмотря на общий «мирный», «застойный», сонный характер эпохи, самые бурные формы, вплоть до расколов. Эти противоречивые течения сказались на всех без исключения многоразличных областях жизни и вопросах современной демократии: отношение к буржуазии, союзы с либералами, голосование за кредиты, отношение к колониальной политике, к реформам, к характеру экономической борьбы, к нейтральности профессиональных союзов и проч.
«Всепроникающая постепеновщина» вовсе не была безраздельно господствующим настроением всей современной демократии, как выходит у Потресова и у Троцкого. Нет, эта постепеновщина скристаллизировалась в определенное направление, нередко создававшее в Европе этого периода отдельные фракции, иногда даже отдельные партии современной демократии. Это направление имело своих вождей, свои органы печати, свою политику, свое особое – и особо организованное – воздействие на массы населения. Мало того. Это направление все более и более опиралось – и, наконец, окончательно, если можно так выразиться, «оперлось» – на интересы известного общественного слоя внутри современной демократии.
«Всепроникающая постепеновщина», естественно, привлекла в ряды современной демократии целый ряд мелкобуржуазных попутчиков; затем, мелкобуржуазные особенности существования – а следовательно, и политической «ориентации» (направления, устремления) – создались у известного слоя парламентариев, журналистов, чиновников союзных организаций; выделялись, с большей или меньшей степенью резкости и отграниченности, своего рода бюрократия и аристократия рабочего класса.
Возьмите, например, обладание колониями, расширение колониальных владений. Несомненно, это была одна из отличительных черт описываемой эпохи и большинства крупных государств. А что означало это экономически? Сумму известных сверхприбылей и особых привилегий для буржуазии, а затем, несомненно, возможность получать крохи от этих «кусков пирога» и для небольшого меньшинства мелких буржуа; затем наилучше поставленных служащих, чиновников рабочего движения и т. п. Что такое «пользование» крохами выгод от колоний, от привилегий, ничтожным меньшинством рабочего класса, например, в Англии имело место, – это бесспорный факт, признанный и указанный еще Марксом и Энгельсом. Но то, что было в свое время исключительно английскими явлениями, стало явлениями общими для всех крупных капиталистических стран Европы по мере того, как все эти страны переходили к владению колониями в больших размерах, и вообще по мере того, как развивался и рос империалистский период капитализма.
Одним словом, «всепроникающая постепеновщина» второй (или вчерашней) эпохи создала не только известную «неприспособленность к нарушениям постепенности», как думает А. Потресов, не только известные «поссибилистские» {152}наклонности, как полагает Троцкий: она создала целое оппортунистическое направление, опирающееся на определенный социальный слой внутри современной демократии, связанный с буржуазией своего национального «цвета» многочисленными нитями общих экономических, социальных и политических интересов, – направление, прямо, открыто, вполне сознательно и систематически враждебное всякой идее о «нарушениях постепенности».
Корень целого ряда тактических и организационных ошибок у Троцкого (не говоря уже об А. Потресове) состоит именно в его боязни, или нежелании, или неспособности признать этот факт полной «зрелости» оппортунистического направления, а равно теснейшей, неразрывной связи его с национал-либералами (или социал-национализмом) наших дней. На практике отрицание этого факта «зрелости» и этой неразрывной связи ведет, по меньшей мере, к совершенной растерянности и беспомощности по отношению к царящему социал-националистическому (или национал-либеральному) злу.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: