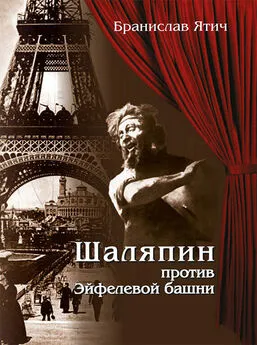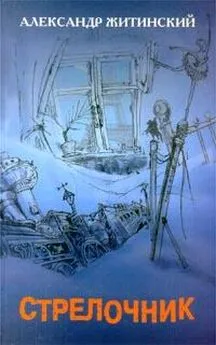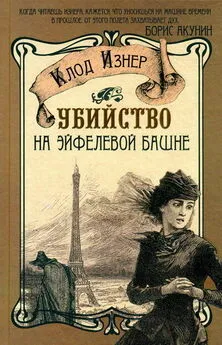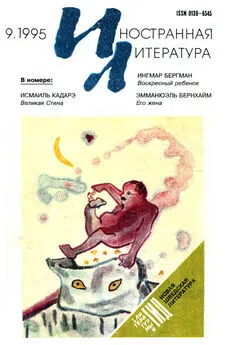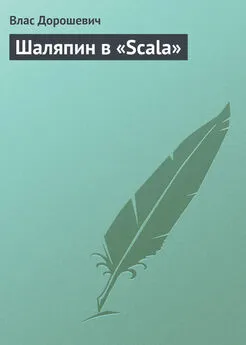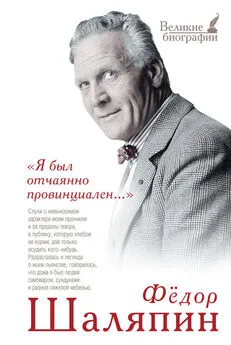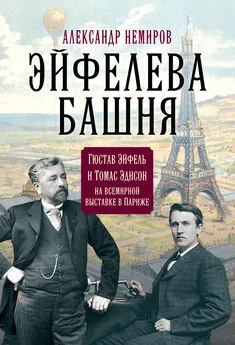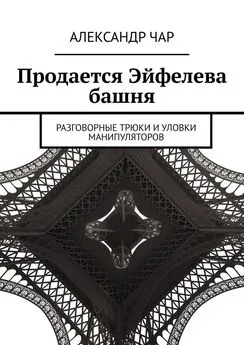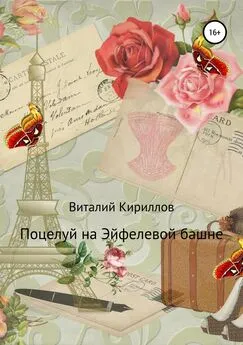Бранислав Ятич - Шаляпин против Эйфелевой башни
- Название:Шаляпин против Эйфелевой башни
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ЛитагентЧетыре Четверти67dd8362-136e-11e6-bded-0cc47a545a1e
- Год:2013
- Город:Минск
- ISBN:978-985-7058-14-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Бранислав Ятич - Шаляпин против Эйфелевой башни краткое содержание
Выпуск этой замечательной книги приурочен к 140-летию со дня рождения Ф. И. Шаляпина. Для многих поколений оперных певцов, особенно басов, Шаляпин стал эталоном певческого и актерского мастерства, источником вдохновения и стимулом для исканий на пути к недостижимому идеалу совершенства в оперном искусстве.
Эта книга – попытка осветить творчество Шаляпина с разных сторон: и манеру исполнения, и эстетическую систему, и таинство гениальности. Книга адресована в первую очередь оперным певцам (особенно молодым, только вступающим на оперную сцену), а также дирижерам и оперным режиссерам, художникам театра, концертмейстерам, театральной публике, да и всем образованным людям, заинтересованным в получении новых знаний, освоении новых сторон хорошо, казалось бы, известных аспектов человеческой культуры и духа.
Шаляпин против Эйфелевой башни - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
– Если опера будет обработана для кино. А «Дон Кихот» замечательный сюжет, но… не знаю, фильмовый ли?
– Да, значит, все-таки трудная это штука – работать в кино! Он задумался.
– Посмотрим, к чему приведут мои переговоры… А все-таки хочется сняться, очень хочется, – прибавил Шаляпин через мгновение, – несчастные мы люди, актеры: почти ничего, никаких следов после нас не останется, когда умрем. Ну правда: много я напел пластинок, но пластинки – это только половина меня, а другая? Мое тело, мимика, движения – тю-тю!.. их нет! Вот и хотелось бы оставить всего себя… [83]
Из Риги путь Шаляпина лежал в Копенгаген, а затем в Лондон, где в «Князе Игоре» он, как обычно, пел в одном спектакле две басовые партии – Владимира Галицкого и половецкого хана Кончака.
В 1932 году продолжается работа над книгой «Маска и душа». Книга выходит в том же году.
Шаляпин снова дает благотворительные концерты и спектакли в пользу безработных и их детей.
Дочь Ирина приезжает в гости к отцу.
Поезд прибыл на парижский вокзал рано утром. Вначале Ирина увидела брата Бориса, а потом и отца. Она вспомнила, что Горький называл его «колокольней». Он действительно был выше всех чуть ли не на голову.
Только дома Ирина заметила, что отец постарел.
– Как хорошо, Аринка, – говорил он, – что ты приехала. Вот мне кажется, что ты кусочек Москвы с собой привезла. Скажу тебе откровенно, надоели мне все эти заграницы. Та к хочется в русскую деревню… Вот бы, как прежде, с Костей Коровиным рыбку половить на «Новенькой» (мельнице). Знаешь, давай-ка сегодня соберемся у Борьки и устроим «эдакий» вечер. Позовем Сережу Рахманинова, Коровина…
Та к и сделали. Вечером собрались у брата. Наварили пельменей (любимое кушанье отца), достали русской водочки – и пошел пир горой.
Сначала пели под гитару, потом стали петь русские песни. Запевал отец, все семейство подтягивало хором, дирижировал С. В. Рахманинов.
Потом запели какую-то плясовую, и отец с Коровиным сорвались и пустились в пляс. Было необычайно забавно и весело.
«На следующий день отец встал рано. Я заметила в нем резкую перемену: он был грустен, сосредоточен и неразговорчив.
К вечеру он несколько оживился, подошел ко мне и сказал:
– Давай поговорим о Москве. Пойдем в гостиную.
Странное впечатление производила на меня эта гостиная в стиле Людовика XIV с тяжелыми мрачными гобеленами на стенах; так не вязалась она с обликом отца. Резким диссонансом казался висевший над камином портрет Шаляпина работы художника Кустодиева, где он изображен в меховой, нараспашку, шубе, на фоне русской ярмарки. Отец сел в кресло, я – напротив.
– Ну, расскажи, – обратился он ко мне, – как работают в московских театрах артисты?
– Прекрасно.
– Да? А вот мне плохо. Приходится играть черт знает в каком окружении, в каких условиях. И декорации, и оркестр, и костюмы плохие. Как часто вспоминаю я своих московских товарищей и, главное, чудесный оркестр Большого театра…
– Поедем в Москву.
– Я бы с радостью, но боюсь…
– Чего же ты боишься?
– Сомнение меня берет, боюсь – отстал я от вас, от вашей жизни. Слышу, у вас новые пути, новое искусство. Вот молодежь, она меня не знает, никогда не видела. А вдруг покажусь ей устаревшим, отжившим. Не примут они, пожалуй, меня!
Я стала доказывать ему, что он ошибается, что надо ехать в Москву.
Он вздохнул.
– Не выполнил я своего назначения в жизни. Может быть, пел, играл неплохо, а вот театра не создал. Где мой театр?.. Там, в России…» [84]
Незадолго до отъезда Ирины в Москву Шаляпин должен был ехать на концерт в Англию, и дочь пошла проводить его на вокзал. В этот прощальный час отец показался ей еще более осунувшимся и печальным.
Он как-то порывисто схватил ее за руку и долго, взволнованно целовал. Отчаяние и страх охватили Ирину. Ей вдруг показалось, что она больше никогда его не увидит…
Шаляпину было тогда пятьдесят девять лет.
10 августа 1932 года Шаляпин начал съемки кинематографической версии «Дон Кихота». Режиссером фильма был Г. Пабст, автором сценария П. Моран, музыку к фильму написал Ж. Ибер.
Сначала снимались сцены на пленере в Испании. Затем киногруппа, в которой был занят и сын Шаляпина Федор, переехала в Лондон, где проходили павильонные съемки.
Неприятности начались с того, что перед самым началом съемок выяснилось: сценарий еще далеко не закончен. Федору Ивановичу не решились об этом сказать. Пабст взял на себя решение этой проблемы, и сценарий доделывался в ходе съемок, что затрудняло работу Шаляпина.
Федор-младший постарался как можно деликатнее объяснить отцу, почему сценарий составляется из отдельных кусков. Поскольку Шаляпин чувствовал себя «на чужой территории», он был непривычно терпелив. Фильм делали одновременно в двух вариантах – французском и английском. Все это замедляло работу.
У Шаляпина приближались условленные заранее концерты в Америке. Он был вынужден уехать, и общие планы снимались с дублером. Крупные планы досняли после его возвращения. В конце марта 1933 года «Дон Кихот» был выпущен в прокат.
Фильм имел успех, хотя звучали и резкие критические замечания. Шаляпин отправил Ирине удовлетворенное письмо. Но все-таки создается впечатление, что с течением времени фильм нравился ему все меньше. Так, он признался польскому журналисту Станиславу Поволоцкому: «Я с радостью согласился играть в этом фильме. Но в результате получился плохо снятый, скучный театральный спектакль. Обилие банальных решений и оперных штампов убедило меня никогда больше не сниматься в кино».
Состояние здоровья Шаляпина медленно, но неуклонно ухудшалось и вынуждало его все чаще обращаться к врачам. В начале 1934 года он лечился у профессора Фальта в Вене, а потом отдыхал в Тироле.
23 марта 1934 года он с восторгом писал Ирине из Парижа:
«Был я в Тироле. Чудо, а не страна. <���…> перед концертами хочу посидеть еще минуту в этих чудных горах Тироля. А в прошлый раз было несказанное очарование: каждую ночь мороз в 15–20 градусов. Снег под ногами хрустит – ночь темнющая и щиплет нос и уши, прямо как в России. Так мне все это понравилось, что хочу из Парижа потихоньку перебираться жить в эту чудную австрийскую деревушку» [85].
Ритм выступлений Шаляпина остается прежним. В апреле началось его большое концертное турне по Германии, завершившееся концертами в Австрии, в Инсбруке и в Венгрии, в Будапеште. В Братиславе он поет «Фауста». Затем перед ним снова возникает видение России.
«Милая Аринушка, – пишет он дочери, – случайно сижу уже неделю в Ковно. Приехал спеть один концерт, а меня упросили спеть еще два „Фауста”. Сегодня последний. Завтра уеду в Прагу – 1-го пою там спектакль, а 2-го уже в Париж, 7-го концерт в Лондоне.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: