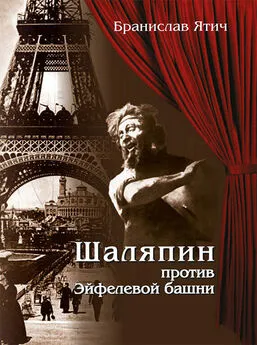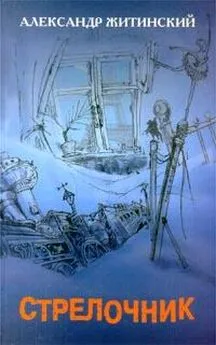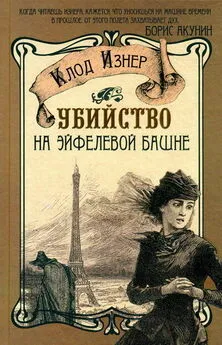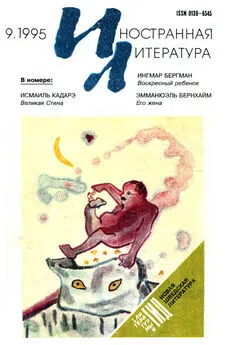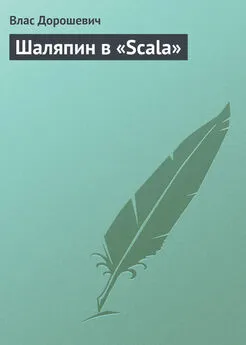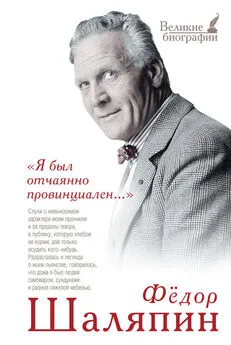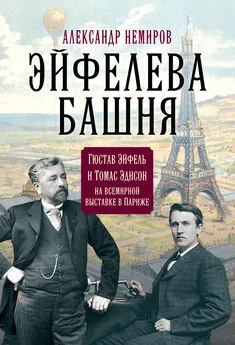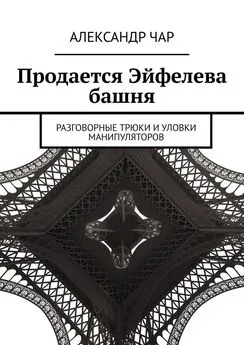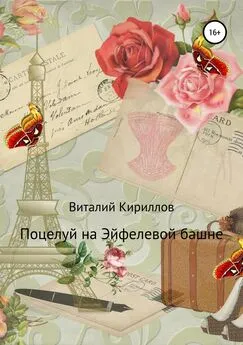Бранислав Ятич - Шаляпин против Эйфелевой башни
- Название:Шаляпин против Эйфелевой башни
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ЛитагентЧетыре Четверти67dd8362-136e-11e6-bded-0cc47a545a1e
- Год:2013
- Город:Минск
- ISBN:978-985-7058-14-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Бранислав Ятич - Шаляпин против Эйфелевой башни краткое содержание
Выпуск этой замечательной книги приурочен к 140-летию со дня рождения Ф. И. Шаляпина. Для многих поколений оперных певцов, особенно басов, Шаляпин стал эталоном певческого и актерского мастерства, источником вдохновения и стимулом для исканий на пути к недостижимому идеалу совершенства в оперном искусстве.
Эта книга – попытка осветить творчество Шаляпина с разных сторон: и манеру исполнения, и эстетическую систему, и таинство гениальности. Книга адресована в первую очередь оперным певцам (особенно молодым, только вступающим на оперную сцену), а также дирижерам и оперным режиссерам, художникам театра, концертмейстерам, театральной публике, да и всем образованным людям, заинтересованным в получении новых знаний, освоении новых сторон хорошо, казалось бы, известных аспектов человеческой культуры и духа.
Шаляпин против Эйфелевой башни - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Ибо, обратившись к миру театра и оперы (а эта, самая комплексная из всех сценических форм, заставляла его соприкасаться и с искусством слова, и с искусством движения, формы и цвета), Шаляпин сталкивался с огромными пластами знаний, которые, в силу недостаточного образования, были ему мало известны или совсем не известны.
Вдохновение подразумевает открытость по отношению к предмету восторга: Шаляпин был способен, встречаясь со знаменитыми людьми своего времени, впитывать огромное количество знаний и в непосредственном общении, и из атмосферы, которую они вокруг себя создавали. Его живой ум, одновременно аналитический и синтетический, не только оперативно использовал полученные знания, но и обладал способностью генерировать новые. Все это оплодотворяло его восприимчивый и исполненный потенциальных сил внутренний мир, способствуя также повышению профессиональной культуры. За короткое время он вырос в личность гигантского масштаба.
Способность вдохновляться шла рука об руку с весьма характерным для Шаляпина ощущением почти детской радости жизни , иллюстрацией которого мог бы послужить следующий рассказ дочери Федора Ивановича – Лидии.
Рождество! От одного этого слова екало сердце. А тут еще двойное счастье: ждали папу, который возвращался из турне по Южной Америке [102]. Несмотря на то, что было известно, в котором часу он приезжает, мы с утра стояли коленками на стульях, прилипнув носами к холодным окнам, через двойные рамы которых ничего не было слышно. Скользили извозчичьи сани, шли люди – все было, как в немом кинематографе. В этот день на бледном небе сияло солнце, и снег слепил глаза. <���…>
Отец не входил, а как-то всегда появлялся в дверях. Пока он снимал шубу и шапку, мы хватались за него, висли на нем, визжали, а он подхватывал то одного, то другого, смеялся, рычал, шутил. <���…>
– Дети, – сказал отец, – я вам привез всяких заморских зверюшек. Вот сейчас мы все это разглядим.
Мы толкались у окон в крайнем возбуждении. С подводы стащили брезент и стали сгружать неимоверное количество клеток с птицами и вносить их в квартиру. Не помню, сколько было клеток, – наверное, штук пятнадцать! Мама замерла, словно к земле приросла, Агаша только руками всплеснула, а Леля старалась утихомирить наш восторг. Мадемуазель любезно улыбалась, но про себя, наверное, думала: «Русские дикари!» Прислуга же деловито вносила клетку за клеткой, а в них-то – птички: и синие, и желтые, и красные, и зеленые, и побольше, и поменьше, и всякие!
Но восторг достиг апогея, когда в одной из самых больших клеток оказались две мартышки.
Начали расчищать место для клеток, которые мы друг у друга все время вырывали из рук, потому что один непременно хотел поставить их здесь, другой – там. Нахохлившиеся птицы сидели перепуганные. Мартышки забились под положенную в клетку вату, а нам обязательно хотелось, чтобы они оттуда вылезли.
Папа принимал самое деятельное участие в размещении клеток. Радовался и волновался не меньше нас. Кажется, он один и разделял нашу радость, ибо мама была в панике: столько работы прислуге чистить все эти клетки! Агаша жалела птиц, гувернантки сдержанно молчали, не выражая ровно ничего.
Придя в себя, птицы расправили перья, и веселое чириканье разнеслось по всему дому. Мартышек вытащили, но, к нашему огорчению, они немедленно забрались по портьерам под потолок и оттуда поглядывали на нас – достать их было немыслимо.
Прошло время, и тут разыгралась настоящая трагедия. Бедные заморские певуньи не могли выдержать суровой зимы, и каждое утро то в одной, то в другой клетке мы находили птичку, лежавшую брюшком вверх с закоченелыми лапками. Детский рев не прекращался в течение многих дней. Мама хваталась за голову.
Отец был смущен и растерян. <���…>
И так продолжалось до тех пор, пока все птички не померли… Мартышки же со временем к нам привыкли. Мы кормили их фруктами и орехами, и они брали у нас еду из рук. Теперь они уже не забирались на портьеры – им было там холодно. Они залезали в папины подушки и там – миленькие такие – сидели безвылазно, прижавшись друг к другу. Мы пытались напяливать на них куклины теплые платьица, но они сдирали их с себя с раздражением, как будто хотели сказать: «Что за издевательство над обезьяньей породой!» – и мы от них отстали. <���…>
Увы, мартышки тоже стали хиреть и делались все более грустными. Они почти не дотрагивались до еды. Опять слезы и отчаяние! Позвали ветеринара. И, о ужас, о горе! У мартышек объявилась чахотка, и ветеринар посоветовал их убрать, так как это грозило «заразой». На следующее утро мы мартышек в папиных подушках не нашли. Мы бегали по всему дому, искали их, звали – мартышки исчезли. Это было уже настоящее горе.
Такое, что даже взрослые не сердились на нас, а утешали, говоря, что там, куда их взяли, им будет лучше. Все поняли, даже маленькая Таня, которая посмотрела на маму и тихим, упавшим голоском спросила: «К Боженьке?» Мама, секундочку помолчав, ответила: «Да, к Боженьке». Даже Агаша смахнула слезу и не стала спорить с тем, что мартышки оказались в раю [103].
К упомянутым чертам характера Шаляпина присоединим еще остроумие и потребность в игре, в лицедействе. Поэтому не удивительно, что он не делал большой разницы между сценой и жизнью: у него была постоянная потребность играть, придумывать новые и новые сюжеты, перевоплощаться. Можно сказать, что Шаляпин любую ситуацию рассматривал как материал для творчества, постоянно находился в состоянии «повышенной творческой температуры» и в любую минуту был готов сыграть «актерский этюд» (более того, ему это было необходимо).
Из жизни в Милане запомнилась мне и такая сцена, – вспоминает Лидия Шаляпина. – Проходя однажды мимо церкви, мы остановились посмотреть вместе с толпой, что происходит. Из церкви появилась процессия, во главе с прелатом в пышном фиолетовом облачении. Толпа начала аплодировать со свойственным итальянцам энтузиазмом. И вдруг отец тоже начал хлопать – но как! Можно было подумать, что он всю жизнь ждал этого момента, что ради этого приехал сюда, за сотни километров.
И вот теперь он стоит и аплодирует, и по лицу его проходит гамма переживаний. Я с изумлением смотрю на него. Неожиданно он поворачивается ко мне и говорит будничным тоном:
– Ну что же, пошли! Чего же ты стоишь? [104]
И еще:
Отец любил иногда разыгрывать для нас и для друзей маленькие сценки. Одна из них называлась «Баба в церкви». Он надевал халат, повязывал голову платком по-бабьи, делал умиленное лицо, становился на колени и усердно молился, крестясь и кладя земные поклоны. И перед взором зрителей возникал образ затерянной деревенской бабы, пришедшей в церковь помолиться.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: