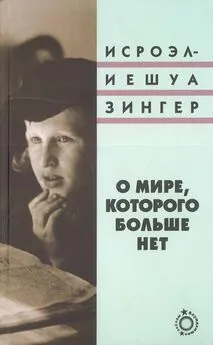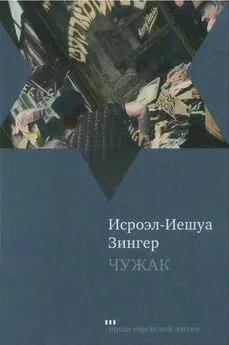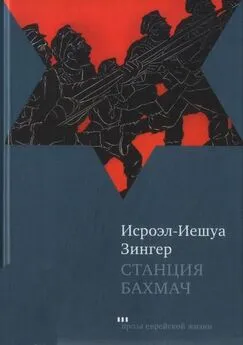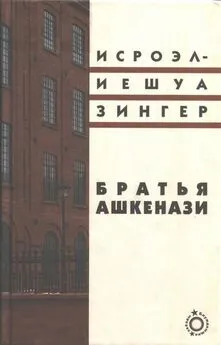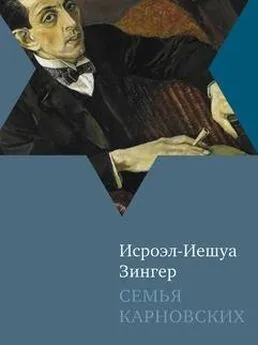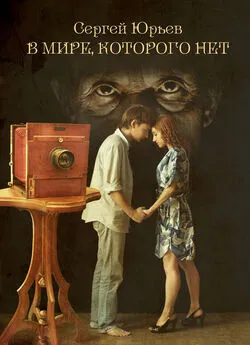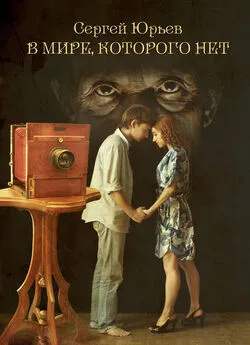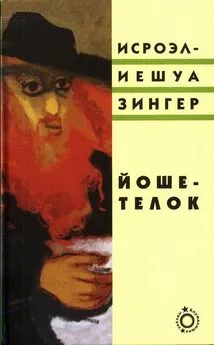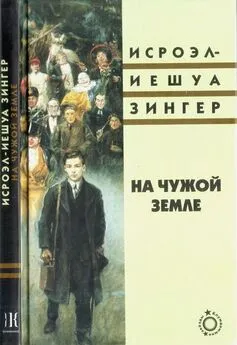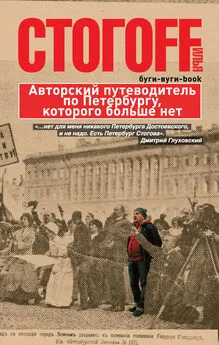Исроэл-Иешуа Зингер - О мире, которого больше нет
- Название:О мире, которого больше нет
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Текст, Книжники
- Год:2013
- Город:Москва
- ISBN:978-5-7516-1164-4, 978-5-9953-0246-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Исроэл-Иешуа Зингер - О мире, которого больше нет краткое содержание
Исроэл-Иешуа Зингер (1893–1944) — крупнейший еврейский прозаик XX века, писатель, без которого невозможно представить прозу на идише. Книга «О мире, которого больше нет» — незавершенные мемуары писателя, над которыми он начал работу в 1943 году, но едва начатую работу прервала скоропостижная смерть. Относительно небольшой по объему фрагмент был опубликован посмертно. Снабженные комментариями, примечаниями и глоссарием мемуары Зингера, повествующие о детстве писателя, несомненно, привлекут внимание читателей.
О мире, которого больше нет - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Сначала мы тащились в буде, потом ехали поездом, потом — на подводе, и через два дня пути возвращались домой, в Ленчин. Первым нас встречал звук шойфера, в который в исполненные благочестия дни месяца элул на чем свет стоит трубили парни в бесмедреше [243] …шойфера, в который… трубили парни в бесмедреше. — В элул происходит подготовка к Осенним праздникам, выражающаяся в трублении в шойфер, чтении слихес (специальных покаянных молитв) и посещении кладбищ. Для элула характерна особая атмосфера душевной тревоги, так как он предшествует Осенним праздникам, когда определяется судьба человека.
.
Нам бьют окна из-за сыновней почтительности, а потом в чулках приходят просить прощения
Пер. М. Бендет
Когда мы вернулись домой из Билгорая, тоска и бедность захолустного Ленчина стали угнетать нас еще больше. Наше заброшенное местечко показалось нам совсем маленьким. Мама, ожившая было в отцовском доме, снова погрузилась в обычное молчание и уныние. Она все еще надеялась преодолеть упрямство моего отца и убедить его сдать экзамен и получить должность раввина в более крупном местечке. Поэтому, проезжая через Варшаву, она выторговала за два рубля составленный на идише самоучитель, по которому можно было самостоятельно выучить русский язык и грамматику. Это была пачка из нескольких десятков тетрадей с разноцветными обложками, на которых был напечатан портрет автора, человека с красиво расчесанной бородой и в ермолке на немецкий манер [244] Ермолка на немецкий манер — то есть цилиндрической формы с высокой тульей. Такая ермолка выдавала в ее обладателе сторонника идей Гаскалы (Просвещения).
, какие носят бадхены. Под портретом стояло имя: Нафтоле-Герц Нейманович [245] Нафтоле-Герц Нейманович (1843–1898) — журналист и педагог. Сотрудничал в газетах на иврите, идише и польском. Издал целый ряд руководств для изучения евреями русского, польского и немецкого языков и перевел на иврит и идиш руководство Заменгофа для изучения эсперанто.
— Гонац [246] Гонац. — Издавна и вплоть до XIX в. вместо имени известного автора использовали его акроним. Видимо, Нейманович придумал себе такой акроним — Гонац, то есть Г<���ерц> Н<���ейманови>ц (в старой орфографии идиша звук «ч» изображался с помощью буквы «цадик»). В то же время это слово означает «рассвет» ( древнеевр. ), ключевое понятие в маскильской (просветительской) пропаганде.
. И портрет автора, и его имя произвели на меня большое впечатление, и я тут же принялся учить русские слова — все они были переведены на идиш. Истории из самоучителя, обычно сопровождавшиеся моралью, ужасно мне понравились, а еще больше — моей сестре. Но они совершенно не нравились нашему отцу. Маме удалось с помощью логики на какое-то время убедить отца в том, что ему следует хотя бы на час в день откладывать древнееврейские книги и заглядывать в самоучитель. Чтобы ему было легче, мама сама заранее проходила урок, а потом повторяла его вместе с ним. Я до сих пор помню, как отец мучился, выговаривая такие фантастические слова, как « падеж », « существительное », « сказуемое », « глагол » и другие в этом роде. Но вскоре это дело ему опротивело. Он наотрез отказался учить наизусть русскую песенку, в которой были такие рифмы: « Кот мохнатый, козел бородатый »… [247] «Кот мохнатый, козел бородатый» — имеется в виду детское стихотворение В. А. Жуковского «Котик и козлик»: «Там котик усатый / По садику бродит, / А козлик рогатый / За котиком ходит; / И лапочкой котик / Помадит свой ротик; / А козлик седою / Трясет бородою» (1851).
— Все это ни к чему, я не пойду разговаривать с губернатором, — сказал он маме и снова взялся за свои древнееврейские книги, поля которых он снизу доверху усеивал бисерными, изящными полукруглыми строчками толкований.
Мама быстро прошла весь самоучитель. Если бы ей нужно было держать экзамен и получить место раввина, она бы сделала это в два счета. Но она была всего лишь женщина, и потому ее знания становились для нее не достоинством, а, наоборот, недостатком. Вместе с мамой и мы с сестрой зубрили тетрадки самоучителя и изо всех сил старались одолеть премудрости русского языка. Правильно ли мы произносили русские слова — это большой вопрос, зато мы знали наизусть все рассказы и мудрые изречения из самоучителя.
— Учись, учись, — ободряла меня мама. — Когда вырастешь, тебе будет легче сдать раввинский экзамен.
Для мамы было ясно как божий день, что я стану раввином; но ей хотелось, чтобы я стал таким раввином, который не боится разговаривать с губернатором.
Моя сестра спросила у мамы:
— А кем я стану, когда вырасту?
— Кем может стать девочка? — ответила ей мама.
Моя сестра, с детства ревнивая, не могла простить того, что ее способности никто не оценит, поскольку она существо женского пола. Это был источник наших с ней постоянных ссор.
Отец продолжал увлекаться своими толкованиями: он писал их целыми днями. Всякий раз, когда ему удавалось открыть что-то новое в Торе или в Геморе, он светился от счастья. Щеки его пылали, голубые глаза сияли. Так как ему некому было рассказать о своих толкованиях, он рассказывал о них маме; отец, вечный энтузиаст, искавший тепла и признания, зависел от маминого мнения, как ребенок.
— Ты что же, собираешься толкованиями прокормить жену и детей? — спрашивала мама.
Кстати, в это время она была на последнем месяце беременности, готовясь произвести на свет новое существо.
Вскоре женщины стали собираться у нас в доме; они шушукались, секретничали, отсылали меня из дома, ведь мальчику не пристало слушать женские разговоры. Однажды на рассвете мама начала стонать. Собравшиеся женщины тут же завесили мамину кровать простынями, а меня отправили за повитухой — гойкой по имени Пакацова.
— Беги скорее и тащи ее сюда! — наказала мне Трейтлиха.
Ей не нужно было меня просить, потому что в детстве беготня была для меня самым естественным занятием. Я все время бегал. На этот раз я мчался как вихрь. Повитухи не оказалось дома — она была в поле, копала перед зимой последнюю картошку. Невысокая, толстая гойка отложила лопату, повязала фартук и, как была в поле — с грязными, перепачканными землей руками, босая, хотя уже наступили холода, — так и отправилась к маме за простыни.
Через несколько часов родилась девочка с рыжими волосами — вся в маму, которая тоже была рыжеволосой.
Хасиды в бесмедреше шутили и насмешничали, когда в субботу, во время чтения Торы, папа нарек новорожденную дочку Сорой [248] …во время чтения Торы, папа нарек новорожденную дочку Сорой. — Обряд имянаречения для девочки состоит в том, что ее отец провозглашает имя новорожденной в субботу в синагоге во время чтения Торы.
. Среди хасидов рождение дочери почиталось делом непочтенным. Часто даже случалось, что отца девочки молодые люди из хасидских семей хлестали своими кушаками; понятно, что у нас дома не стали устраивать никакого застолья. Обывателей просто угостили во время кидуша водкой и песочным печеньем. Для девочки и этого было достаточно.
Интервал:
Закладка: