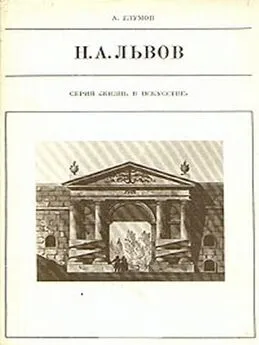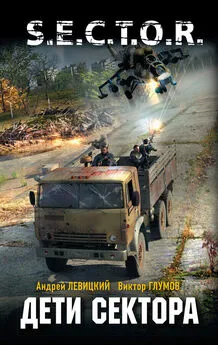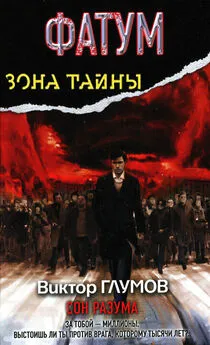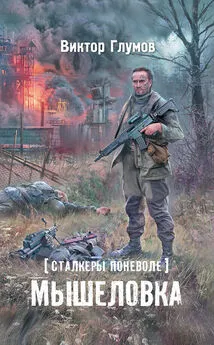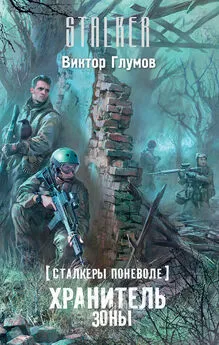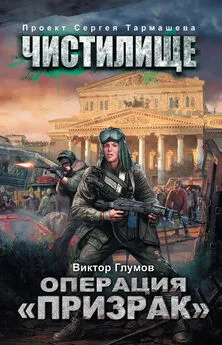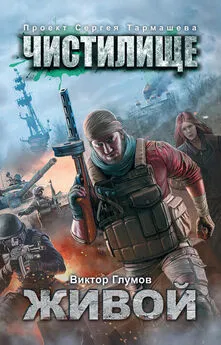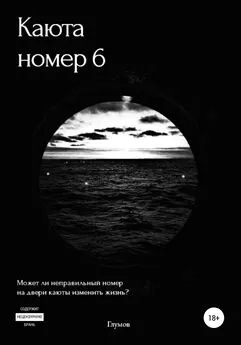А. Глумов - Н.А.Львов
- Название:Н.А.Львов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Искусство
- Год:1980
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
А. Глумов - Н.А.Львов краткое содержание
Книга А.Н. Глумова посвящена жизни и творческой деятельности замечательного представителя русской культуры XVIII века Н.А.Львова и является первым обстоятельным исследованием, показывающим разнообразные стороны его таланта, который ярко проявился в области архитектуры, поозии, музыки, собирательства песенного фольклора и др. Широко используя документальный материал (в том числе и архивный), Глумов создаст живой, запоминающийся портрет Львова, дополняя его панорамной картиной сложной и многоликой художественной и политической жизни той эпохи.
Н.А.Львов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Весь в серебряном уборе
И в каменьях дорогих,
Развевая бородою
И сверкая сединою
На сафьянных сапожках
Между облаков коральных
Резвый вестник второпях
Едет из светлиц Кристальных,
Вынимая из сумы
Объявленье от зимы:
«Чтобы все приготовлялись,
Одевались, убирались
К ней самой на маскерад.
Кто же в том отговорится,
Будет жизни тот не рад,
Или пальцев он лишится,
Или носа, или пят».
Эти стихи - фрагмент из поэмы Львова «Руской 1791 год» 69 .
Львов как поэт - на новом этапе. После юношеских стихов «черновой тетради» 1771-1780 годов, после комедии «Сильф» (1778) и стихотворения «Идиллия, вечер 1780» - типичных произведений сентиментализма, до нас, кроме нескольких эпиграмм, не дошли стихотворные произведения Львова, написанные в 1780-е годы. Поэтому крайне трудно определить, даже наметить процесс развития его поэтического дарования. Работа над оперой «Игрище невзначай», носящей явные черты раннего реализма, как и над сборником песен сыграла значительную роль в формировании его нового поэтического стиля. Но главное, общее развитие русской литературы определило ярко выраженный сатирико-реалистический характер его творчества. Львов теперь уже зрелый поэт. Стряхнув с себя прозрачные кружева пасторали, избавившись от влияний сентиментализма, он пишет сочными красками, кистью тонкой и изощренной. «Руской...» - не сказка, но образы сказочные. Вестник зимы здесь чем-то напоминает Деда Мороза. Так же выпукло, с богатством эпитетов и остроумных метафор создан образ Зимы:
«Едет барыня большая,
Свисты ветром погоняя,
К дорогим своим гостям;
Распустила косы белы
По блистающим плечам;
Тут боярыня гуляла
Меж топазных фонарей
И различно забавляла
Разны сборища людей.
На окошко ль взор возводит?
Вдоль стекла растут цветы.
Ко реке ль она подходит?
Стлались зеркальны мосты.
Лишь к деревьям обратился
Чудной сей богини взор,
Красно-желтый лист свалился:
В бриллиантовый убор
Облеклись сады несметны,
И огонь их разноцветный
Украшал весь зимний двор...»
Но, главное, поэт ведет атаку против верхоглядства тех, кто
«Поскакали в дальни страны,
Побросали там кафтаны,
Наши мужественны станы
Обтянули пеленой»,
предвосхищая на тридцать лет страстный монолог грибоедовского Чацкого против «пустого, рабского, слепого подражанья». Львов высмеивает фанфаронство и чванство, хвастунов, которые «возмечтали, что вселенны овладели мы красой, разумом чужим надулись».
«Руской стал с чужим умом,
С обезьяниным лицом;
Он в чужих краях учился
Таять телом, будто льдом;
Он там роскошью прельстился
И умел совсем забыть,
Что не таять научаться
Должно было там стараться,
А с морозами сражаться
И сражением мужаться
В крепости природных сил».
И тут Львов подходит к главному кредо своей жизни:
«Счастья тот лишь цену знает,
Кто трудом его купил».
Он продолжает верить и в самобытность русского человека. Все наносное преходяще. Оно навеяно метелями зимы.
«Но приятный солнца лик
Лишь в любезный край проник,
Удивляясь, что такая
Сделалась премена злая
В русских северных сынах,
Дал приказ свой в небесах:
«Что понеже невозможно
Вдруг расслабшим силы дать,
То по крайней мере должно
Зиму в ссылку отослать!»
...Что-то сталось в облаках!
В превеликих попыхах
Сев на северном сияньи,
И в престранном одеяньи,
Козерог слетел с лучем,
Искосившись Декабрем,
Вдруг на барыню седую
Напустил беду такую...
Не подумайте, однако,
Мой читатель дорогой,
Чтобы счастье одиноко
Составляло век златой.
Бриллиант перед глазами
Оттого и льстит красой,
Что он с разными огнями.
И о зимних красотах
Потому мы не жалели,
Что красы иные зрели
В русских радостных краях.
...Благотворная их сила
Нам сулила новый свет,
Переменам научила,
Что все к лучшему идет».
Так он приходит к оптимистической мысли, что русский все преодолеет и выйдет победителем в нравственной битве с собственной своей натурой.
Поэма «Руской 1791 год» посвящена Марии Алексеевне, его неизменному другу и спутнику.
Жену Львов боготворил. Раз и навсегда сердце его было отдано ей - она платила ему той же любовью и преданностью. Ей, только ей одной он пишет стихи. Посвящение Марии Алексеевне поэмы «Руской» сопровождается большим поэтическим предисловием. Его «Гавриле Романычу ответ» (1792) из деревни Черенчиц завершается проникновенными строчками:
«Но были ль бы и здесь так дни мои спокойны,
Когда бы не был я на Счастии женат?»
К Марии Алексеевне обращено наивное и трогательное стихотворение, опять в традициях сентиментализма, «Отпуская двум чижикам при отъезде в деревню к М. А.» (май 1794):
«Ах, постой, весна прекрасна!
Ждет меня мой милый друг...»
Образ весны перекликается здесь с образами цветов в уже цитированных стихах «итальянского» дневника (1781):
«Их любовь живет весною,
С ветром улетит она.
А для нас, мой друг, с тобою
Будет целый век весна».
Когда здание Почтового стана было наконец построено, Львовы переселились из дворца графа Безбородко в собственные достаточно обширные апартаменты. Там поселился и Боровиковский, приехавший в Петербург в декабре 1788 года и ютившийся на «постоялом дворе». Живой свидетель, первый биограф пишет об этом: «С сего времени дом г. Львова соделался - так сказать - пристанищем Художников. Малейшее отличие в какой-либо способности привязывало Львова к человеку и заставляло любить его, служить ему и давать все способы к усовершенствованию его Искусства: ...я помню его попечения о Боровиковском, знакомство его с г. Егоровым, занятия его с капельмейстером Фоминым и пр. людьми, по мастерству своему пришедшими в известность и находившими приют в его доме».
Из года в год укреплялись духовные связи с Державиным и Капнистом. Их жены тоже сдружились. Мария Алексеевна любила свои Черенчицы и подолгу там проживала с детьми, в то время как муж работал в Петербурге или странствовал по белу свету. К ней наезжала Катерина Яковлевна Державина, одна или с мужем. «Мы нонче приискали маленькую деревеньку подле Черенчиц, - приписывает Катерина Яковлевна в письме Державина Капнисту, - и хотим ее купить pi там поселиться. Что, кабы и вы тоже? Вы бы иногда, поэты, и поссорились и помирились; ведь это у вас чистилище ваше в прежние времена бывало, ...а мы бы, жены ваши, украшали бы жилища ваши своими трудами, забавляли вас, а иногда и разнимали, когда далеко споры ваши зайдут... Я сейчас еду к Марье Алексеевне».
Споры о стихах и о стихосложении трех давних приятелей заходили действительно далеко, что видно по письмам. Державин, например, с бесцеремонной прямотой, даже грубостью говорил Капнисту о его стихах, что они «весьма плоховаты... Пет ни правильного языка, ни просодии, следовательно, и чистоты. Читая их, должно бормотать по-тарабарски и разногласица в музыке дерет уши... с поясом лезешь под подол к той героине, которую сам хвалишь». Львов выступал в роли примирителя: «Гаврила не прав в некоторых своих бурных примечаниях; я ему скажу...» 70 .
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: