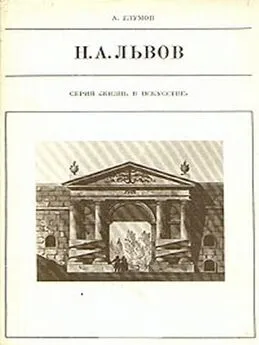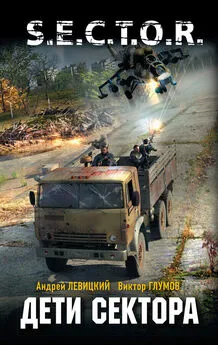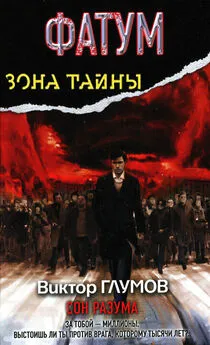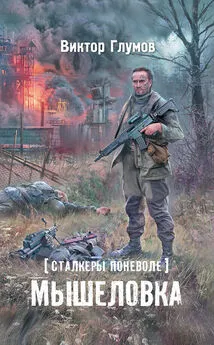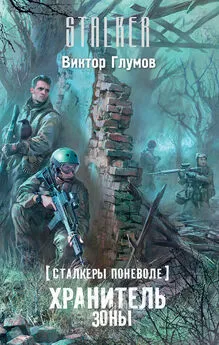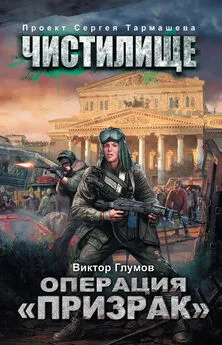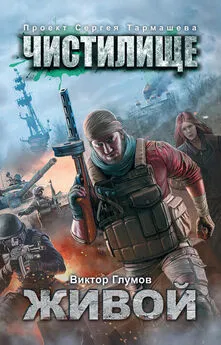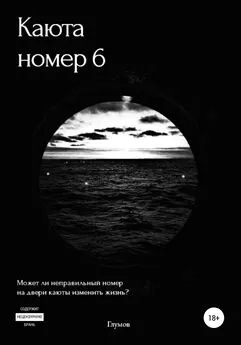А. Глумов - Н.А.Львов
- Название:Н.А.Львов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Искусство
- Год:1980
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
А. Глумов - Н.А.Львов краткое содержание
Книга А.Н. Глумова посвящена жизни и творческой деятельности замечательного представителя русской культуры XVIII века Н.А.Львова и является первым обстоятельным исследованием, показывающим разнообразные стороны его таланта, который ярко проявился в области архитектуры, поозии, музыки, собирательства песенного фольклора и др. Широко используя документальный материал (в том числе и архивный), Глумов создаст живой, запоминающийся портрет Львова, дополняя его панорамной картиной сложной и многоликой художественной и политической жизни той эпохи.
Н.А.Львов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Сам он внес тонкие и талантливые поправки в рукопись Державина «На взятие Измаила» (1790). В строфе о русском воинстве:
«Умейте лишь, главы венчанны,
Его бесценну кровь щадить,
Умейте дать ему вы льготу,
К делам великим дух, охоту
И милостью сердца пленить».
Отчеркнув в рукописи «милостью», Львов тут же пишет: «В моральном смысле не представляется мне милость иначе как: простить преступление... если же милость кто по заслуге получил, то она уже не милость, и слово сие уменьшало бы достоинство действия; тогда бы была она только справедливость. И для того я написал: правота» 71 .
Жизнь Львова делилась между Санкт-Петербургом и «новоторжекой столицей», как он шутя называл свои Черенчицы.
16 августа того же 1791 года по соседству, в селе Арпачёве, состоялось великое торжество, вылившееся в подлинный народный праздник: закончились великие труды над возведением храма, продолжавшиеся девять лет.
Об этом празднестве Львов на другой же день рассказал Петру Лукичу Вельяминову в письме, по сути литературном произведении. Должно быть, именно Вельяминов и передал это письмо Карамзину, а тот опубликовал его в «Московском журнале», заменив, однако, имена начальными буквами.
Посмеявшись чуть-чуть над старым «дурацким» своим фаэтоном, который был выше, чем крыши домов, и в котором приехал он к дядюшке, Львов описывает «хор свой родимой и поющим и пляшущим... Тут-то бы уж ловко было подтянуть тебе! Уж как бы басовито раздались: ох, сени, мои сени, под которые сестры мои как вдохновенно плясали, эдаких мастериц и между мастеров нету... Песни и пляски, и пляска под песни, и все братское развеселило нас так, что любо стало» 72 .
Далее он признается: «Я пьян еще и теперь от торжества своего и желал бы разделить с тобою те несравненные впечатления».
В письме Львов рассказывает, как его дядюшка Петр Петрович указал хору «семи братов и трех сестер» спеть старую песню, сложенную его отцом, то есть дедом Николая Александровича, капитаном гвардии Петром Семеновичем Львовым. Он, по словам его сына, «был витязь здешних мест и гроза всего уезда. Песню свою сочинил он, едучи раненый из Персидского похода; не удалось ему пропеть ее дома... скончался в 1736 году».
Говоря тут же в письме о русских песнях, давнишних, Львов роняет веские слова: «...в них находим мы картины старых времен и дух людей того века».
Песня П. С. Львова, деда Николая Александровича, приведена в письме к Вельяминову:
«Уж как пал туман на синё море,
А злодей-тоска в ретиво сердце;
Не сходить туману с синя моря,
Так не выдти кручине с сердца вон.
Не звезда блестит далече во чистом поле,
Курится огонечек малешенек.
У огонечка разостлан шелковой ковер,
На коврике лежит удал доброй молодец,
Прижимает белым платом рану смертную,
Унимает молодецкую кровь горячую.
Подле молодца стоит тут его бодрой конь,
Он и бьет своим копытом в мать сыру землю,
Будто слово хочет вымолвить хозяину:
«Ты вставай, вставай, удалой доброй молодец!
Ты садись на меня, на своего слугу;
Отвезу я добра молодца в свою сторону.
К отцу, к матери родимой, к роду племени,
К малым детушкам, к молодой жене».
Как вздохнет тут удалой доброй молодец;
Подымалась у удалого его крепка грудь;
Опустилися у молодца белы руки;
Растворилась его рана смертоносная,
Полилась ручьем кипячим кровь горячая.
Тут промолвил доброй молодец своему коню:
«Ох ты, конь мой, конь, лошадь верная,
Ты, товарищ моей участи.
Добрый пайщик службы царские!
Ты скажи обо мне молодой вдове,
Что женился я на другой жене,
На другой жене, на сырой земле,
Что за ней я взял поле чистое,
Нас сосватала сабля вострая,
Положила спать колена стрела».
Стилевая выдержанность и строй художественных образов, отсутствие литературной стилизации говорят о глубоком знании, вероятно интуитивном, закономерностей народного стихосложения.
В «Собрание...» нотных записей Львов не включил этой песни, очевидно, из скромности. Он не считал себя вправе признавать ее народной. Зафиксировал эту песню Данила Кашин в 1833 году, включив в свой первый сборник «Русские народные песни...». Подлинность записи Кашина закреплена двоюродным братом Львова, участником арпачевского хора Федором Петровичем Львовым в его книге «О пении в России» (Спб., 1834). Его покоряло в песне прадеда прежде всего «соблюдение нравственных отношений... никакого сожаления о прекращении жизни и о разлуке с сердечными своими».
Мелодия былинного сказа крайне строгая, скупая и однообразная. Выразительность и воздействие песни на слушателей достигались, конечно, главным образом самим текстом и эмоциональностью в манере ее исполнения.
И что знаменательно! - декабристы на каторге в 1830 году, в годовщину восстания 14 декабря, исполняли гимн, посвященный восстанию Черниговского полка, со словами декабриста Михаила Бестужева, подтекстовавшего их «на голос» песни П. С. Львова «Уж как пал туман...».
«Подтекстовками» занималась вся молодежь в Чсрснчицах и Лрпачёве: подтекстовки «на голос», как уже говорилось, были широко распространены в русском обществе и за границей на рубеже двух столетий. «Подтекстовки» встречаются в творчестве Львова неоднократно. Им написан дуэт на музыку Жирдини, «в Лондоне печатанную»:
«Куколка, куколка,
Ты мала, я мала.
Где ты тогда была?
Как я глупенька
Встала раненько,
Встала раненько,
В поле ушла.
Там между розами
Мальчик спал с крыльями.
Я приголубила
Мальчика сонного.
Он лишь проснулся,
Взглядом сразил.
Я приуныла,
Куклу забыла:
Мальчик мне мил».
Эти стихи завершаются в типичном «стиле рококо». Но первая часть была записана видными собирателями фольклора в 90-х годах XIX века как народная песня во многих вариантах в губерниях Тверской, Новгородской (Валдай) и других. Дальнейшим исследователям предстоит решить вопрос: воспользовался ли Львов для дуэта Джирдини словами народной песни, или же его дуэт перешел в народ.
Второе «музыкальное» стихотворение: «Слова под готовую музыку Зейдельмана. Дуэт» - не представляет большого интереса, в отличие от музыкальной подтекстовки русской плясовой с авторским заголовком: «Песня для цыганской пляски. На голос «Вдоль по улице метелица идет». Она опубликована в «Литературном наследстве» (1933):
«...чок, чок, чок, чок, чеботок,
Я возьму уголек в плетешок...»
Львов избрал «Вдоль по улице...», потому что чутко различал, какие именно плясовые песни подходят для цыганской темы; в его предисловии к «Собранию...» можно прочесть несколько проницательных наблюдений над цыгано-русским жанром, зародившимся как раз в описываемые годы после того, как А. Г. Орлов привез из Бессарабии цыганский хор.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: