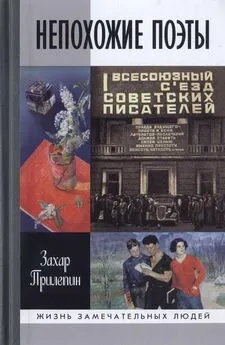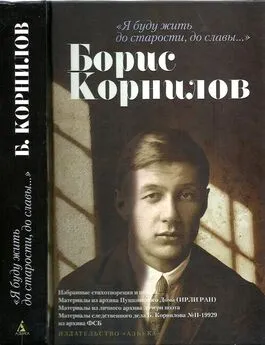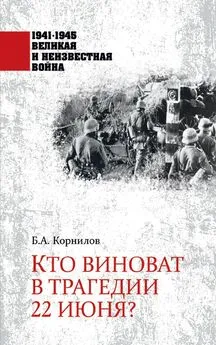Захар Прилепин - Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи: Анатолий Мариенгоф. Борис Корнилов. Владимир Луговской
- Название:Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи: Анатолий Мариенгоф. Борис Корнилов. Владимир Луговской
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-235-03859-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Захар Прилепин - Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи: Анатолий Мариенгоф. Борис Корнилов. Владимир Луговской краткое содержание
Трех героев этой книги, казалось бы, объединяет только одно: в своё время они были известными советскими поэтами. Всё остальное — происхождение, творческая манера, судьба — разное. Анатолий Мариенгоф (1897–1962) после короткого взлёта отошёл от поэзии, оставшись в истории литературы прежде всего как друг Есенина и автор мемуарной прозы. Борис Корнилов (1907–1938) был вырван из литературной жизни и погиб в годы репрессий. Владимир Луговской (1901–1957) после громкой и заслуженной славы пережил тяжёлый творческий и человеческий кризис, который смог преодолеть лишь на закате жизни. Вместе с тем автор книги, известный писатель Захар Прилепин, находит в биографиях столь непохожих поэтов главное, что их связывает: все они были свидетелями великих и трагических событий русской истории XX века — не прятались, не отворачивались от них и сумели отразить их в своём творчестве. Мыслящий читатель, несомненно, отметит, как современно и даже злободневно звучат иные стихи этих поэтов в наше время.
знак информационной продукции 16 +
Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи: Анатолий Мариенгоф. Борис Корнилов. Владимир Луговской - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Виделись?
Виделись.
Разговоры какие велись?
Всякие.
Ругали власть?
Бывало.
Лупандин: «Из ваших показаний явствует, что вы являлись участником бесед на контрреволюционные темы, в которых высказывались террористические настроения. Следовательно, вы также являлись участником троцкистско-зиновьевской террористической организации?»
Корнилов: Нет. Вот этого не надо, прошу. Я не был участником террористической организации. Запишите: нет.
19 апреля — четвёртый допрос.
Лупандин выясняет отношения Корнилова с литераторами.
Конкретно: с Павлом Васильевым (он ещё под следствием, нарассказывал очень многое и про всех подряд, но про Корнилова у него даже не спрашивали), с Ярославом Смеляковым (арестован, но вскоре будет освобождён) и с Иваном Приблудным (уже под следствием, во время допросов валяет дурака и пишет в камере издевательские письма наркому Ежову).
«Вопрос. На одном из контрреволюционных сборищ Георгий Куклин сочувственно отзывался о репрессированных Иване Катаеве и Александре Воронском. Приблудный Иван тоже принимал участие в вашей беседе на контрреволюционные темы?»
«Ответ. Нет, он сидел и молчал».
Но про Васильева и Смелякова Корнилов сказал. Про одного, что «отстаивал развитие индивидуального хозяйства на капиталистический лад», про другого, что «контрреволюционно высказывался».
Достойных примеров не вспомнил.
После 19 апреля Бориса Корнилова 45 дней не вызывали.
Надежда. Упадок. Надежда. Упадок. Ужас. Утро.
Как ты там сочинял, Боря? «Сочиняйте разные мотивы, / всё равно не долго до могилы…»
Надежда. Упадок. Надежда. Упадок. Ужас. Утро.
Как ты там обещал? «Я буду жить до старости, до славы / и петь переживания свои…» Ну так пой, живи.
Надежда. Упадок. Надежда. Упадок. Ужас. Утро.
Следствию не хватает фактуры, всё шито белыми нитками. Надо возвращаться к стихам.
Лупандин читает стихи, почёсывая скулу.
Да-а-а… Тут нужен специалист. Кто у нас специалист?
У ленинградского НКВД есть свой человек — 29-летний, молодой, но резвый литературовед Николай Лесючевский, в недавнем прошлом редактор журнала «Литературная учёба». Вот пусть он и разбирается.
Лесючевский подошёл к делу вдохновенно. Справка его была предоставлена почти через два месяца после ареста Корнилова — 13 мая: он отлично знал, что Корнилов сидит. И он его топил.
«Ознакомившись с данными мне для анализа стихами Б. Корнилова, могу сказать о них следующее. В этих стихах много враждебных нам, издевательских над советской жизнью, клеветнических и т. п. мотивов. Политический смысл их Корнилов обычно не выражает в прямой, ясной форме. Он стремится затушевать эти мотивы, протащить их под маской “чисто лирического” стихотворения, под маской воспевания природы и т. д. Несмотря на это, враждебные контрреволюционные мотивы в целом ряде случаев звучат совершенно ясно и недвусмысленно. Прежде всего здесь следует назвать стихотворение “Ёлка”. В нём Корнилов, верный своему методу двурушнической маскировки в поэзии, даёт якобы описание природы, леса. Но маска здесь настолько прозрачна, что даже неопытному, невооружённому глазу становится полностью ясна откровенная контрреволюционность стихотворения. Написанное с большим чувством, с большим темпераментом, оно является тем более враждебным, тем более активно направленным на организацию контрреволюционных сил.
Корнилов цинично пишет о советской жизни (якобы о мире природы):
“Я в мире тёмном и пустом…”
“Здесь всё рассудку незнакомо…
Здесь ни завета,
Ни закона,
Ни заповеди,
Ни души”.
Насколько мне известно, “Ёлка” написана в начале 1935 г., вскоре после злодейского убийства С. М. Кирова…»
На всякий случай приврал с датой (стихи написаны в конце 1934-го), но так убедительнее выглядит версия, настолько убедительно, что ладони горят: хорошо получается ведь, крепко. Итак:
«В это время шла энергичная работа по очистке Ленинграда от враждебных элементов. И “Ёлка” берёт их под защиту. Корнилов со всей силой чувства скорбит о “гонимых”, протестует против борьбы советской власти с контрреволюционными силами. Он пишет, якобы обращаясь к молодой ёлке:
“Ну, живи,
Расти, не думая ночами
О гибели
И о любви.
Что где-то смерть,
Кого-то гонят,
Что слёзы льются в тишине
И кто-то на воде не тонет
И не сгорает на огне”».
Выдохнул, и дальше:
«Стихотворение “Вокзал”, стоящее у Корнилова рядом с “Ёлкой”, перекликается с нею. Маскировка здесь более тонкая, более искусная. Корнилов старательно придаёт стихотворению неопределённость, расплывчатость. Но политический смысл стихотворения всё же улавливается вполне. Автор говорит о тягостном расставании на вокзале, об отъезде близких друзей своих. Вся чувственная настроенность стихотворения такова, что становится ясно ощутимой насильственность отъезда, разлуки:
“И тогда —
Протягивая руку,
Думая о бедном, о своём,
Полюбил я навсегда разлуку,
Без которой мы не проживём.
Будем помнить грохот на вокзале,
Беспокойный, тягостный вокзал,
Что сказали, что не досказали,
Потому, что поезд побежал.
Все уедем в пропасть голубую”.
Очень двусмысленны следующие строки о том, что потомки скажут, что поэт любил девушку, “как реку весеннюю”, а эта река —
“Унесёт она и укачает
И у ней ни ярости, ни зла,
А впадая в океан, не чает,
Что меня с собою унесла!”
И дальше, обращаясь к уехавшим:
“Когда вы уезжали,
Я подумал,
Только не сказал —
О реке подумал,
О вокзале,
О земле — похожей на вокзал”».
«Повторяю, это стихотворение воспринимается особенно ясно, будучи поставлено рядом с “Ёлкой”», — настаивает Лесючевский. А то вдруг товарищи в НКВД не поймут. Ставьте рядом с «Ёлкой», товарищи, и картина будет полной.
«А в рукописи Корнилова, подготовленной как книга, между “Ёлкой” и “Вокзалом” стоит только одно и то же политически вредное стихотворение “Зимой”. Смысл этого стихотворения в клеветническом противопоставлении “боевой страды” периода гражданской войны и нынешней жизни. Последняя обрисована мрачными красками. Мир встаёт убогий, безрадостный и кроваво-жестокий».
Может, ещё эпитетов дописать про нынешний мир? Или перебор? Ладно.
«Не случайно, видимо, эти три стихотворения поставлены Корниловым рядом. Они усиливают друг друга, они делают особенно ощутимым вывод, который сам собой выступает между строчек: нельзя мириться с такой мрачной жизнью, с таким режимом, нужны перемены.
Этот контрреволюционный призыв является квинтэссенцией приведённых стихотворений. Он не выражен чётко, словами. Но он выражен достаточно ясно всей идейной направленностью стихотворений и их чувственным, эмоциональным языком».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: