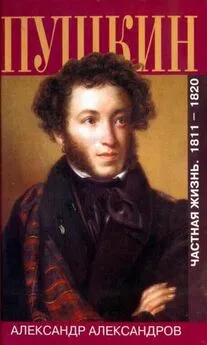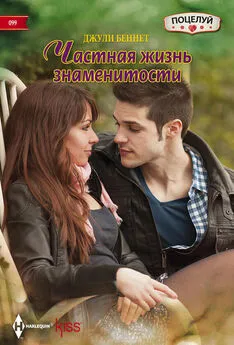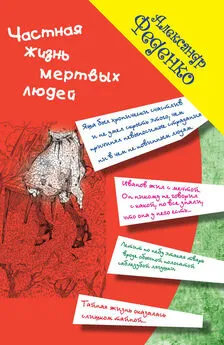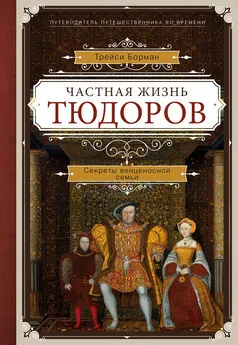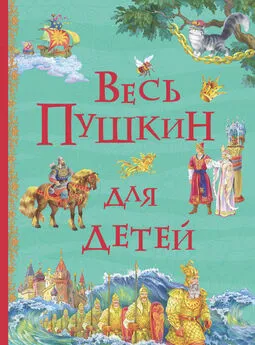Александр Александров - Пушкин. Частная жизнь. 1811—1820
- Название:Пушкин. Частная жизнь. 1811—1820
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Захаров
- Год:2003
- Город:Москва
- ISBN:5-8159-0322-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Александров - Пушкин. Частная жизнь. 1811—1820 краткое содержание
В этой книге все, поэзия в том числе, рассматривается через призму частной жизни Пушкина и всей нашей истории; при этом автор отвергает заскорузлые схемы официального пушкиноведения и в то же время максимально придерживается исторических реалий. Касаться только духовных проблем бытия — всегда было в традициях русской литературы, а плоть, такая же первичная составляющая человеческой природы, только подразумевалась.
В этой книге очень много плотского — никогда прежде не был столь подробно описан сильнейший эротизм Пушкина, мощнейший двигатель его поэтического дарования. У частной жизни свой язык, своя лексика (ее обычно считают нецензурной); автор не побоялся ввести ее в литературное повествование.
А. Л. Александров — известный сценарист, театральный драматург и кинорежиссер. За фильм «Сто дней после детства» он удостоен Государственной премии СССР.
Пушкин. Частная жизнь. 1811—1820 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
После ухода Хитрово Горчаков, оставшись один, прошел в свой кабинет, сел за письменный стол, отодвинул бювар свиной кожи с тиснением, подаренный ему на очередной юбилей кем-то из сотрудников, и положил перед собой записки Модеста Корфа. Потом открыл один из ящиков стола и извлек из его глубин потертый портфель. Там у него хранились лицейские автографы Пушкина, Кюхельбекера, Илличевского, лекции профессоров, собственные письма к родным из Лицея… Он ничего не уничтожил, потому что всегда действовал только сообразно своим устремлениям и никогда ничего не боялся. То, что порой окружающие принимали за страх, даже за низкопоклонство пред сильными мира сего, а таковым для него был только государь, было всего лишь подобающим его месту и званию разумением.
Перебирая автографы, он читал заголовки: «Послание к Наталье», «Князю А. М. Горчакову», «Послание к Батюшкову», «К молодой вдове»… Наконец отыскал несколько весьма потрепанных листов с автографом поэмы «Монах», долго разглядывал ее. Никто до самой его смерти так и не узнал, что князь Горчаков эту сомнительную поэму сохранил.
— Все-таки Пушкин, — усмехнулся он и покивал головой.
Потом придвинул к себе листы с записками своего покойного уже однокашника, а впоследствии и сановитого сослуживца, в свое время преуспевшего по службе раньше самого князя, за что честолюбивый князь Горчаков его недолюбливал. Он всегда помнил, что Модинька Корф, выскочка и служака, в тридцать четыре года был уже государственным секретарем, то есть занимал ту же должность, что и Сперанский в расцвете своей карьеры. Вспомнил он об этом и сейчас, что в отношении покойника выглядело крайне глупо. Но все, что касалось карьеры, князь вообще воспринимал болезненно, и было время, в ранней молодости, когда он был до того честолюбив, что носил в кармане яд, чтобы отравиться, если его обойдут чином.
— Пушкин прославил наш выпуск, — услышал он хорошо знакомый голос старика Модеста Корфа, с которым он неоднократно общался в Государственном совете и встречался не раз у самого государя. Корф так или иначе всегда занимал достаточно высокие государственные посты, кроме того, он преподавал наследнику и великим князьям курс правоведения. Это был его конек, ибо еще со Сперанским он принял самое деятельное участие в составлении свода законов Российской империи. Лицейские годы они никогда не вспоминали, но та прежняя, лицейская жизнь всегда незримо стояла между ними и то ли разделяла, то ли соединяла их, этого до конца им так и не суждено было понять. — Если из двадцати девяти человек один достиг бессмертия, это, конечно, уже очень, очень много… — словно говорил ему Модест Андреевич.
Как странно бывает иногда услышать голос давно умершего человека, думал князь, почему он звучит так явственно? В каком году умер Модинька? Барон Корф, граф Модест Андреевич? Кажется, в 1876-м? Да, точно. В 1876-м…
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ,
Вышедши от князя, Иван Петрович направился в сторону луга Цихтенхайленале, где были лучшие променады. В четыре-пять здесь собирались и играли в лаун-теннис и крокет. Забавно выглядели на лугу мужчины: они все были одеты в белые суконные колпаки особого покроя, в такие же суконные панталоны и рубахи или блузы. Даже экипажи останавливаются, чтобы поглядеть на эту картину. Общество оживлялось, разглядывая пузатых мужиков, любивших играть в паре с молодыми девушками.
Под веселые крики игроков Ивану Петровичу хорошо было думать, он сел на траву в сторонке и забылся. Он стал думать о графе Корфе, воспоминания которого пролистал на почте перед тем, как отдать князю Горчакову, и как будто снова почувствовал тот сладкий дым, которым обкуривал его досточтимый граф в своем особняке.
Недавно ушедший в отставку и возведенный в графское достоинство Модест Андреевич Корф жил тогда в Петербурге. Человек искательный, которому уже нечего было искать, услужливый, но с чувством собственного достоинства, чрезмерно гордый, как многие недалекие люди, но безусловно честный, то есть не бравший лишнего, но не упускавший возможного, злой, наблюдательный, едкий, но всегда безусловно вежливый, он почти не имел друзей, прекрасно понимая людскую природу и не ценя людскую привязанность. К нему можно было отнести известный анекдот, который рассказывали о князе Меншикове. Знакомый, увидев в глазах у князя искреннюю слезу, которую он не успел стереть, пенял ему, зачем, мол, князь скрывает свои человеческие чувства, ведь люди считают его черствым, на что князь отвечал ему: «Когда вы доживете до моих лет, то убедитесь, что люди не стоят того, чтобы дорожить их мнением». Можно было биться об заклад, что Модест Андреевич думал точно так же.
Однако он не отказался принять молодого Ивана Петровича, скорее от скуки, на которую его обрекала старость и вынужденное бездействие. Было это за некоторое время до его кончины. Граф был членом комитета по сооружению памятника Пушкину, и члены оного собирались частенько в графском доме. В те времена Иван Петрович был еще слишком молод, чтобы самому участвовать в работе столь представительного собрания, но после одной лицейской годовщины, где был представлен графу, осмелился посетить его.
— Если из двадцати девяти человек один достиг бессмертия, это, конечно, уже очень и очень много. Да-да, очень и очень много, — повторил Модест Андреевич.
Был он заядлый курильщик и теперь даже при малознакомом посетителе не удержался, чтобы не приказать слуге принести кальян. Тот принес трубку и медный тазик с водой, через которую пропускался дым при курении.
Иван Петрович сразу спросил разрешения записывать его рассказы, и граф, узнав, что он владеет стенографией, очень обрадовался.
— У кого учились?
— У Ольхина. Он учит по системе Габельсберга.
— Знаю-знаю, у меня есть книга Ольхина. Издания 1866 года, — уточнил он. Память у него была замечательная, библиографическая память бывшего директора Публичной библиотеки. — Теперь в основе всех систем лежат Габельсберговы правила, — продолжал он. — А было время, когда надо было доказывать их преимущества. Хотя сам Габельсберг основывался отчасти на началах геометральных систем, и в мое-то время уже устаревших.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: