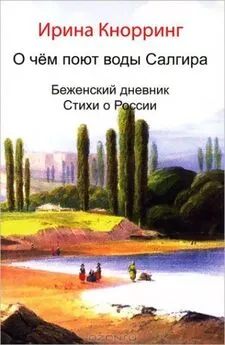Ирина Кнорринг - Повесть из собственной жизни: [дневник]: в 2-х томах, том 2
- Название:Повесть из собственной жизни: [дневник]: в 2-х томах, том 2
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Аграф
- Год:2013
- Город:Москва
- ISBN:978-5-7784-0434-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ирина Кнорринг - Повесть из собственной жизни: [дневник]: в 2-х томах, том 2 краткое содержание
Дневник поэтессы Ирины Николаевны Кнорринг (1906–1943), названный ею «Повесть из собственной жизни», публикуется впервые. Второй том Дневника охватывает период с 1926 по 1940 год и отражает события, происходившие с русскими эмигрантами во Франции. Читатель знакомится с буднями русских поэтов и писателей, добывающих средства к существованию в качестве мойщиков окон или упаковщиков парфюмерии; с бытом усадьбы Подгорного, где пустил свои корни Союз возвращения на Родину (и где отдыхает летом не ведающая об этом поэтесса с сыном); с работой Тургеневской библиотеки в Париже, детских лагерей Земгора, учреждений Красного Креста и других организаций, оказывающих помощь эмигрантам. Многие неизвестные факты общественной и культурной жизни наших соотечественников во Франции открываются читателям Дневника. Книга снабжена комментариями и аннотированным указателем имен, включающим около 1400 персоналий, — как выдающихся людей, так и вовсе безызвестных.
Повесть из собственной жизни: [дневник]: в 2-х томах, том 2 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Сегодня я совсем спокойна. Вероятно, просто потому, что слишком перенервничала, издергалась вчера. Просмотрела программу и увидела, что силы свои я переоценила. К 5-ти еду к Обоймакову, повторим с ним — вывезет кривая!
Настроение — не вчерашнее, проваливаться не хочется. А погода хорошая. Париж сейчас так красив. Эта свежая, светлая зелень на бульварах, зеленая с прочернью, и воздух теплом таким пахнет, а перед кафе столики уже наружу выставились — все это так хорошо; все говорит о весне и лете, а также и о счастье.
7 апреля 1927. Четверг
Так вот. Как прошел у меня вчерашний день: прихожу я к 5-ти часам к Обоймакову, начинаем заниматься. Опять он мне все рассказывает. Дошли до 20-го (последнего) билета, надоело нам, устали; и я решила, что «ну его к черту!» Потом все-таки Обой-маков мне его рассказал, но говорил он всего минуты две. «Тут нужно воды налить, уж как-нибудь, сами…» Вскоре пришли Лева и Гинсбург, оба «знающие»; смеялись, что их надо только под конец пустить в зал и т. д. Начались перекрестные вопросы. Я опять за свое: «Какая разница между референдумом и плебисцитом?»(как раз из 10-го билета). По этому вопросу существует много теорий, и никто мне толком не ответил… К 7-ми отправились в Институт. Шацкий сидит в канцелярии и проверяет письменные работы поступивших на 2–3 семестр. У калитки несколько студентов. На меня сразу накидывается один: «На сколько лет избирается в Америке верхняя палата?» «На три». «Это правда? А там спорят — на 6 или 3». «На 3, верьте». Настроение паническое. И чем больше собирается толпа, тем больше паники. «Вы держите?» «Я еще не подготовился». «Вы знаете 4-й билет?» «А с чего вы начинаете говорить о парламентаризме?» Приходит Милюков. Приезжает в такси Эйзенман (француз). В правом глазу огромный монокль в черепаховой оправе, бородка. Наконец, просят всех наверх. Пришли, разделись, каждый по привычке занял свое место. Тут я начала волноваться, вышла на площадку. Подходит Андрей, успокаивает. Подходит Белый, что-то говорит: «А отчего вы так волнуетесь?» «А почему вы решили, что я волнуюсь?» «Да потому, что вы мне сейчас так резко ответили». Смеется. Наконец, вижу, поднимаются профессора. Загоняют всех в аудиторию. Пошли. Милюков сел за кафедру, понаставили стульев. Гурвич тут же вертится. В аудитории гвалт, крик. Стараюсь настроить себя на трагический лад, делаю серьезную нервную мину — не выходит. Среди профессоров недоумение (как же примоститься!). Наконец, Кулишер предлагает освободить первые парты. Он сам садится на стул перед первой партой моего ряда, Шацкий — перед средним рядом. Милюков просит составить порядковый список. Мирей де Марон, сидящий передо мной, пишет себя, потом его атакуют со всех сторон. Я сразу ему на ухо: «Меня, меня, меня!» Записал — успокоилась. Немного стихло, и Милюков говорит: «Один студент просил проэкзаменовать его первым, так как ему надо ехать на работу, на завод». Войцеховский Андрей вскакивает, идет, садится к Кулишеру. Мирей де Марон — к Шацкому. Белый обдумывает у Кулишера. Что делается у Шацкого не вижу, рядом с ним сидит Эйзенман. Милюков на кафедре, то в одну сторону наклоняется, то — в другую. Прислушивается. Догадываюсь, что Андрей отвечает 1-й билет. Позавидовала. Потом слышу, у них произошел какой-то конфликт. Голос Кулишера: «Если вы говорите, что читали Дайси, то как же вы это-то не знаете?» И вскоре голос Андрея, немного резкий: «У меня нет обыкновения говорить, что я читал, если я этого не читал». Кулишер вообще страшно нервничал, пенсне летало с носа, хватался за голову, откидывался на спинку стула, хохотал. Мутузили его довольно долго, больше 10-ти минут. Наконец, освободили, т. е. матрикул нам еще не дали, и балы ставили на листах бумаги. Андрею — 17. Счастливый, подходит ко мне, начинает что-то говорить, с другой стороны подскакивает Мирей де Марон. Я не знаю, когда будет моя очередь. Вижу, что Лева идет к Шацкому, показала ему кулак.
Потом вдруг голос Милюкова: «Кнорринг». Встаю, иду. Сажусь на свободное место рядом с Левой. Шацкий в это время что-то говорит с Милюковым, уходит Эйзенман. Я сижу. Милюков мне говорит: «А билет-то, билет». Билеты на парте у Кулишера. Сначала цапнула раскрытый билет Андрея, схватила другой, смотрю… 10. Очевидно, здорово сгримасничала. Смотрю в билет Левы, что-то о парламенте. Предлагает: «меняемся?» Оглядываюсь: «Нет, говорю, неудобно, смотрят». Подходит Шацкий, начинает экзаменовать Леву. Я была довольно спокойна, хотя чувствовала себя не совсем ладно. Делаю серьезное лицо, «обдумываю», да что тут выдумаешь: «Формы непосредственного народоправства. Референдум. Народная инициатива». Одно придумала — упомянуть Руссо. Некрасов удачно назвал этот билет «лирическим билетом». Чувствую на себе пристальный взгляд — смотрит Гурвич, смотрит пристально, полунасмешливо, полусочувственно. Друг друга мы поняли. Лева кончает, получает — 18. Шацкий обращается ко мне, но прежде я обращаюсь к нему: «Я не смогу переменить билет?» «?» «Тут нечего говорить, нет фактов, на которых можно было бы базироваться…» «Ничего, поговорим». Вижу, что он сразу хочет идти мне на помощь и задавать вопросы. Но я это опережаю и начинаю говорить сама. Сказала раз, повторила другими словами, упомянула Руссо. Что-то говорила о референдуме… Потом он спросил о Монтескье (кажется, Руссо без Монтескье не бывает), еще о чем-то. Ответила. На один только вопрос не ответила — что такое вето и билль. Даже названия не помню. Потом спросил об избирательной реформе 1832 года, и только я начала ее объяснять, он меня перебивает: «Ну, это вы знаете», и поднимается, идет к кафедре. Я некоторое время продолжаю сидеть, потом тоже поднимаюсь. Он говорит мне вслед -15. Слава Богу, один экзамен свалила! Довольно скоро после меня идет отвечать Лиля, тоже к Шацкому, и тоже 10-й билет. Шацкий, вероятно, уже немного обалдел. «Разве мы с вами еще не кончили?» А Лиля: «Нет, я другая. Это Ира Кнорринг отвечала вам этот же билет». «Ах, так. А я все еще до сих пор вас путаю».
Я полчаса ждала, не будут ли выдавать матрикулы, потом махнула рукой и поехала. Дома у нас сидит Юрий. Радостная, начинаю что-то долго и подробно рассказывать.
После экзамена поехала к Обоймакову, пожала ему руку, сказала спасибо. «А завтра опять приду!» Сейчас, в 2 1/2 — еду. Оттуда к Юрию. Он очень доволен за меня. А писать сейчас больше нет времени.
Тетрадь X. 8 апреля 1927 -12 сентября 1928. Париж
8 апреля 1927. Пятница
Вчера ездила к Обоймакову заниматься. А у него сегодня экзамен по Советскому государственному праву, на столе программа, вид озабоченный. Не хотелось быть нахальной и отнимать его время, просила чуть-чуть рассказать из тех билетов, которых нет в моих книгах, условились, что приду в субботу перед экзаменами. Поехала к Юрию. И чем ближе я к нему подходила, тем страннее было у меня чувство. «По-настоящему» я его очень давно не видела, м<���ожет> б<���ыть>, не так уж и давно, как кажется. Эта неделя была такая большая, эти волнения, экзамен такой — неожиданно благополучный. И эти дни Юрий был не со мной, его просто не было. Характерно, что его имя даже не упоминалось в дневнике эти дни. Это объяснимо и естественно: экзамен — редкая и большая вещь. А успех, конечно, сильно поднял настроение; м<���ожет> б<���ыть>, даже несколько вскружил голову. Во всяком случае, не удивительно, что я о нем столько пингу, говорю и думаю. Но я поймала себя и на другом: меня опять потянуло к Институту; и даже студенты, которые так раздражали меня последнее время, стали опять как-то близки. Мне даже захотелось как-нибудь на той неделе пойти на экзамен, посмотреть, как он происходит, как сдал такой-то и такой-то. На этом-то я себя и поймала, и мне стало очень неприятно. «Неужели же я пойду в Институт, когда могу провести время с Юрием?» Прихожу к нему. Он живет теперь на чердаке, комнатка славная, маленькая, в форме трехгранной призмы. И как-то сразу все пошло не так, как раньше. Он мне признался, отчего такой странный был в среду: «Я никак не думал, Ирина, что мне будут так неприятны эти экзамены». А я это знала, и я давно говорила ему об этом. Знала, что будет неприятно; и то, что не хватило силы воли; и то, что мы не идем в ногу, не волнуемся одним волнением и не живем одним желанием; и то, что есть область, где я одна; что есть область, куда он за мной не пошел. А он только в среду это почувствовал. Я вернулась домой в ужасно паршивом состоянии. Вот в такие моменты я могу сжечь весь свой дневник и стихи… А я вместо того, чтобы его успокоить, сказать, что ведь это нас не отделит друг от друга, не помешает, начала говорить как раз обратное, что вот меня опять потянуло к Институту, что скоро начнутся занятия, будут заняты вечера, будем редко видеться и т. д. Оба расстроились. «Есть два выхода, Юрий». Первый — ему как-нибудь только сдать экзамен, догнать меня. Второй — мне бросить Институт. Юрий понял. «Нет, конечно, не бросай, не надо». А я бы могла.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Ирина Кнорринг - Повесть из собственной жизни: [дневник]: в 2-х томах, том 2](/books/612118/irina-knorring-povest-iz-sobstvennoy-zhizni-dnevnik-v-2-h-tomah-tom-2.webp)