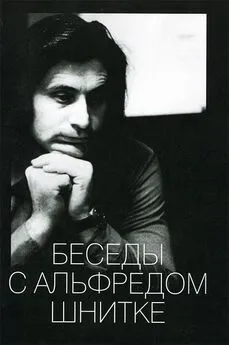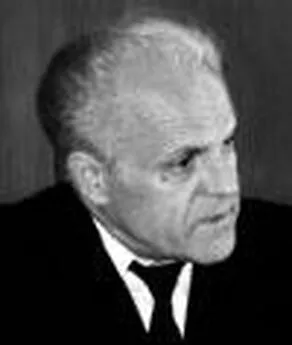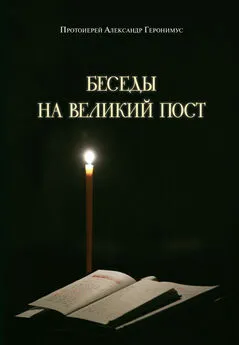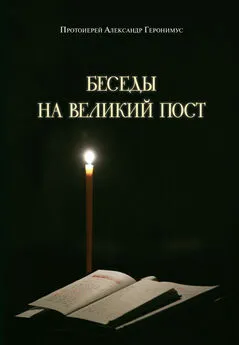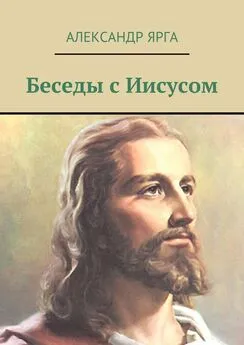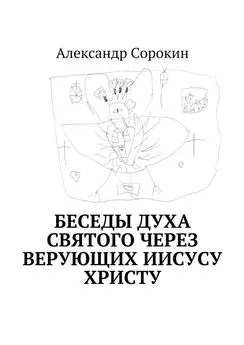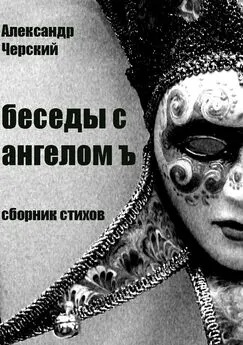Александр Ивашкин - БЕСЕДЫ С АЛЬФРЕДОМ ШНИТКЕ
- Название:БЕСЕДЫ С АЛЬФРЕДОМ ШНИТКЕ
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:РИК “Культура”
- Год:1994
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Ивашкин - БЕСЕДЫ С АЛЬФРЕДОМ ШНИТКЕ краткое содержание
Основной материал книги составляет запись бесед с известным композитором, которые вел А. В. Ивашкин на протяжении 1985-1992 годов. Темы этих бесед чрезвычайно разнообразны - от личных воспоминаний, переживаний - до широких философских обобщений, метких наблюдений об окружающем мире. Сквозной линией бесед является музыка -суждения Шнитке о своем творчестве, отзывы о музыке классиков и современников. В книге представлены некоторые выступления и заметки самого Шнитке, а также высказывания и интервью о нем. Издание содержит обширный справочный аппарат: полный каталог сочинений, включающий дискографию, а также список статей и интервью Шнитке. Все материалы, кроме отмеченных ссылками на предыдущие издания, публикуются впервые. Для музыкантов-профессионалов и широкого круга читателей.
БЕСЕДЫ С АЛЬФРЕДОМ ШНИТКЕ - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
223
крылся также в новом качестве - оперного режиссера: на маленьком пространстве, которое и сценой назвать нельзя, поставил труднейшую оперу Бриттена Поворот винта с помощью простейших, но совершенно оригинальных приемов (вспомним хотя бы вызывающую мурашки пространственную разобщенность голосов и “тел” у признаков!). Хотелось бы ждать от Рихтера новых режиссерских работ, но тут начинаешь опасаться, что из-за этого он будет меньше играть.
Конечно, Рихтер натура универсальная, и, оценивая его как пианиста, невозможно отрешиться от остальной его деятельности. Может быть, он столь велик как пианист именно потому, что он больше чем пианист - его проблемы располагаются на уровне более высоком, чем чисто музыкальный, они возникают и решаются на стыке искусства, науки и философии, в точке, где единая, еще не конкретизированная словесно и образно истина выражается универсально и всеобъемлюще. Ординарный ум обычно ищет решения проблемы на ее же плоскости, он слепо ползает по поверхности, пока более или менее случайно, путем проб и ошибок не найдет выхода. Ум гения ищет ее решения в переводе на универсальный уровень, где сверху есть обзор всему и сразу виден правильный путь. Поэтому ,те, кто бережет свое время для одного дела, достигают в нем меньшего, чем те, кто заинтересован смежными делами. - эстетическое зрелище последних приобретает дополнительное измерение, они видят больше, правильнее и объемнее...
Однако все попытки подобрать рациональный ключ к таинственной природе гения бессмысленны: мы никогда не найдем формулу одаренности и никогда не сможем повторить Великого Мастера, живущего среди нас, - пусть он живет долго!
1985 г.
Музыка в СССР. - 1985. - Июль-сентябрь. - С. 11-12
О серьезном и несерьезном
Кажется, впервые я увидел и ощутил Геннадия Николаевича как дирижера, когда он исполнял Concerto grosso Андрея Волконского. Это сочинение игралось, по-моему, один раз в Большом зале консерватории, примерно в 54-м или 55-м году. А первый контакт с ним возник в начале 60-х годов. Тогда к юбилею - 100-летию Московской консерватории - профессорами и преподавателями кафедры сочинения было написано коллективное произведение. Я, как и многие мои коллеги, участвовал в этом. Мы все писали вариации на тему Мясковского. Сочинение вышло предельно пестрым, и стилистически, и технически... Мне трудно назвать всех участников, но среди них были Кабалевский, Голубев, Чулаки, Фере, Анатолий
224
Николаевич Александров и многие молодые композиторы - Сидельников, Пирумов, Николаев... Конечно, первая проблема, которая встала бы здесь перед любым дирижером, - можно ли вообще это сыграть и как это все соединить. Проблема была не дирижерская, но по-своему композиторская: сделать из совершенно разнородного материала нечто, воспринимающееся как единое целое. И это не стало проблемой для Геннадия Николаевича. Он “разместил” материал так, что в какой-то момент перешел от вариаций, написанных профессорами, к вариациям, написанным более молодыми преподавателями, - таким образом, что, действительно, из потока разного получилось нечто единое. Незримая композиторская задача была им предельно просто и убедительно выполнена. Это был первый случай, когда 'моя партитура, в числе других, попала в его руки.
Постепенно наше общение становилось более частым. Он исполнил мой Первый скрипичный концерт в 63-м году с Марком Лубоцким в качестве солиста. Это было для меня очень важно, потому что я не имел еще контакта с музыкантами такого масштаба и не представлял себе дирижера, с которым не надо было бы, как уже случалось, сидеть подолгу и обсуждать разные подробности. Здесь был человек, который видел, слышал сочинение как бы сразу. И попутно возникали уже какие-то вопросы по поводу деталей, но - исходя из изначально цельного представления.
Контакты продолжались, он дирижировал моими сочинениями в Ленинграде, такими, как Музыка для фортепиано и камерного оркестра или Второй скрипичный концерт с тем же Марком Лубоцким. И, наконец, в 72-м году я закончил произведение, которое Геннадию Николаевичу, посвящено, - Первую симфонию. Я занимался им четыре года. Не только потому, что в это время был вынужден довольно много сил отдавать киномузыке. Были и другие причины. Тут стояла задача, которая была для меня очень важной и одновременно, как мне казалось, очень подходила к образу того дирижера, которому предстояло играть сочинение. Я имею в виду взаимодействие разных начал: абсолютно серьезных, предельно серьезных - с одной стороны, и, с другой стороны, крайне игровых, почти легкомысленных. Это взаимодействие проявлялось не только в нотном тексте, но и в сценическом поведении. Мне хотелось написать такое сочинение, которое не могло быть терминологически исчерпано, - так же, как не может быть каким-то словом обозначено такое явление в музыке, как Рождественский. (Я не взялся бы найти такой термин - и вообще слово “термин” в этой ситуации мне кажется неуместным, потому что любые словесные приближения к сути эту суть не в состоянии полностью исчерпать, они только могут приблизить нас к пониманию.)
И вот в лице Рождественского я нашел человека, живо интересовавшегося всей этой вроде бы внемузыкальной частью, которая вовсе не была модным довеском к партитуре, а входила в некую функциональную сферу, относилась к сути сочинения.
У симфонии была очень сложная судьба, ее с огромным трудом удалось исполнить уже не в Москве, где к этому моменту Рождественский был вынужден уйти из БСО, а в Горьком. Совершенно неожиданным и
225
новым было для меня взаимодействие оркестра Горьковской филармонии с ансамблем Мелодия под руководством трубача Владимира Чижика и саксофониста Георгия Гараняна. И эта идея тоже исходила от Рождественского. У меня в партитуре содержались импровизационные эпизоды и приблизительные планы их реализации, но я, конечно, представлял себе оркестровое исполнение, а не такое - из “другого мира”. И вдруг именно это было предложено Рождественским, что и стало наилучшим решением:
взаимодействие двух очень профессиональных, но совершенно разных музыкальных миров оказалось таким неожиданным для обоих, новым и интересным. (Не говоря уж о крайней заинтересованности авторской - в том, что из всего этого получится.)
Да, идея - словно бы простым решением вывести строгую функцию сочинения на какой-то иной уровень, отчего и само оно очень много выиграло, - эта идея исходила от Рождественского. И еще одна подробность. У меня симфония заканчивалась тихой кодой и замиранием звучности оркестра. Так же, как Прощальная симфония Гайдна, она была связана с уходом музыки куда-то, музыканты уносили собой музыку. И вдруг простой вопрос Рождественского: “А как же мы будем кланяться?!” Этот вопрос принес его же собственный ответ: “А почему после всего этого оркестр не может - так же точно, как выходил в начале симфонии, - еще раз неожиданно выйти в конце?!” Что и было осуществлено и оказалось абсолютно верным. Это было как бы последнее возвращение с очень серьезного уровня к внешне менее серьезному, благодаря чему все сочинение поднималось к более высоким обобщениям. Такую задачу осознать, сформулировать ее перед собой и выполнить может только человек, для которого одинаково значимо как серьезное, так и несерьезное. Это для меня было бесспорным доказательством того, что так называемая импровизация, мгновенное нахождение ответа на вопрос - не есть легкое решение, это - точное решение. Конечно, я ни в коем случае не собираюсь подвергать сомнению необходимость и долгого формулирования, и долгого обдумывания. Но для всего свое время. Работа руководителя оркестра совмещает в себе и годы труда, и мгновения внезапных точных ответов. То и другое есть суть настоящего музыканта.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: