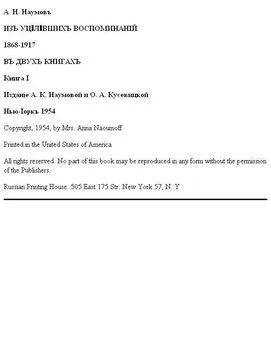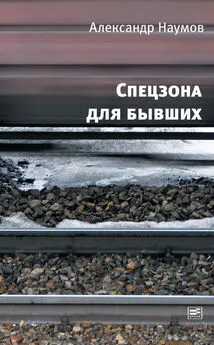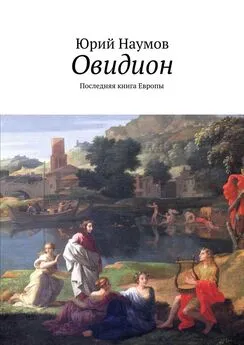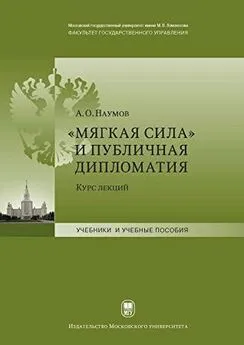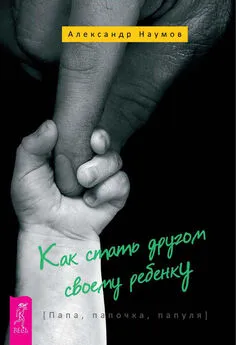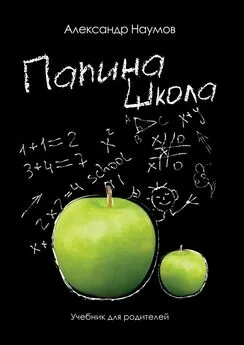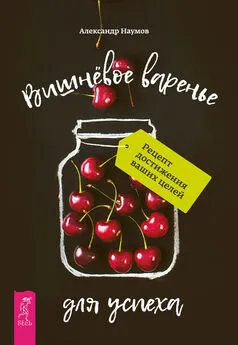Александр Наумов - Из уцелевших воспоминаний (1868-1917). Книга I
- Название:Из уцелевших воспоминаний (1868-1917). Книга I
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:1954
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Наумов - Из уцелевших воспоминаний (1868-1917). Книга I краткое содержание
Из уцелевших воспоминаний (1868-1917). Книга I - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Самый курсъ богословія о. Сергіевскаго представлялъ собой объемистый, чрезвычайно сложный трудъ, изложенный тяжелымъ, схоластическимъ, нерѣдко малопонятнымъ языкомъ.Вспоминается мнѣ, напримѣръ, такая въ немъ фраза:...
„мы аппелируемъ отъ трупа къ живой душѣ” — и многое въ томъ же стилѣ...
За рѣдкими исключеніями, мало кто зналъ курсъ о. Сергіевскаго; всѣ больше разсчитывали на случай и дряхлость экзаменатора. Дѣло, однако, въ томъ, что престарѣлый профессоръ имѣлъ способность иногда вдругъ прозрѣвать, проявляя своего рода „lucida intervalla";тогда начиналъ онъ вслуши* ваться въ отвѣты и бывалъ взыскателенъ и неумолимъ — оторопѣвшаго завравшагося студента рѣзко обрывалъ, стыдилъ и отсылалъ для переэкзаменовки.
Курсъ тюрьмовѣдѣнія читалъ приватъ-доцентъ Пусторослевъ, которому мы были признательны за то, что, благодаря его хлопотамъ, намъ удалось видѣть въ Москвѣ, или скорѣе подъ Москвой, нѣкоторыя системы тюремъ новѣйшей конструкціи.
Посѣтили мы и новую военную тюрьму, выстроенную по сложному Пенсильвано-Оксфордскому типу, представлявшую систему радіусообразныхъ, сквозныхъ корридоровъ, сходившихся въ одномъ центрѣ, откуда можно было производить наблюденіе за всѣмъ происходившимъ въ этой тюрьмѣ. Всѣ проходы и полы были покрыты мягкими коврами, благодаря чему надзирателямъ былъ слышенъ малѣйшій шумъ. Далѣе, въ этой тюрьмѣ, при одиночномъ заключеніи, была достигнута полнѣйшая изоляція. При насъ вывели на свободу одного солдата, пробывшаго въ одиночной камерѣ 6 мѣсяцевъ; онъ имѣлъ видъ не человѣка, а скорѣе какого-то существа, въ первое время совершенно безсловеснаго, видимо отвыкшаго говорить.
Судебную медицину читалъ деканъ нашего факультета Легонинъ, почтенный старичокъ, много работавшій по своей спеціальности. На его лекціи ходило очень мало народу, а на практическія занятія въ анатомическій театръ — и того меньше...
Каковы же были условія занятій во время пребыванія моего зъ Университетѣ? Прежде всего, коснусь самой техники преподаванія, а затѣмъ скажу нѣсколько словъ по поводу своихъ общихъ впечатлѣній о прошломъ своего студенчества въ отношеніи прохожденія и изученія лекціонныхъ курсовъ.
Изъ всего написаннаго мною выше явствуетъ, что ограничиваться однимъ слушаніемъ лекцій было невозможно. Необходимо было еще и записывать все то, что говорилось намъ съ кя.оедры. Нѣкоторые профессора, вродѣ Боголѣпова, читали такъ, какъ будто диктовали. Запись за ними представлялась дѣломъ сравнительно легкимъ, но были и другіе лекторы, за которыми записывать было невѣроятно трудно, почти невозможно, — приходилось набрасывать самый краткій конспективный перечень главнѣйшихъ основныхъ доводовъ и выводовъ. Въ силу этого ощущалась крайне настоятельная нужда въ изданіи полнаго курса читанныхъ лекцій.
Въ этихъ цѣляхъ съ перваго же курса изъ среды студентовъ образовывалась особая комиссія, которая обычно въ полномъ составѣ присутствовала на всѣхъ лекціяхъ, и потомъ выпускала въ литографированномъ видѣ соотвѣтствующіе по каждому предмету лекціонные листы. Въ общемъ, весь матеріалъ, по своему содержанію и съ чисто внѣшней стороіны, издавался весьма добросовѣстно и недорого. Это изданіе и служило основной помощью для нашего домашняго прохожденія и изученія факультетскихъ наукъ.
Оглядываясь спустя почти 40 лѣтъ на прошлую обстановку моего учебнаго періода, приходишь къ нѣкоторымъ выводамъ по поводу общей постановки учебнаго дѣла въ прошлой Россіи.
Прежде всего, бросается въ глаза огромная разница въ условіяхъ ученія въ гимназіяхъ и затѣмъ университетскаго. Строгость, требовательность и бдительный надзоръ, которыя мы всѣ испытывали въ средней школѣ, съ полученіемъ аттестата зрѣлости и переходомъ въ университетъ, сразу какъ бы обрывались. Молодые люди фактически освобождались отъ какой-либо опеки и предоставлялись самимъ себѣ.
Существовало на бумагѣ правило, чтобы студенты безъ уважительныхъ причинъ не пропускали лекцій. Для сего курсовой т. н. педель (сторожъ, дядька) имѣлъ соотвѣтствующій разграфленный журналъ, гдѣ противъ каждаго студента долженъ былъ отмѣчать его приходъ или отсутствіе. Фактически это требованіе превратилось въ сплошную комедію. Педеля относились къ своимъ обязанностямъ не только небрежно, но, если получали отъ нѣкоторыхъ своихъ студентов „чаевыя”, то проставляли противъ нихъ въ соотвѣтствующихъ графахъ помѣтки о безпрестанномъ присутствіи ихъ на лекціяхъ, хотя бы сіи господа ни разу и въ глаза своихъ профессоровъ не видали.
Народу въ Московскомъ Университетѣ было много — особенно на юридическомъ факультетѣ. Были профессора, какъ напримѣръ Боголѣповъ, Янжулъ и Колоколовъ, которые до извѣстной степени „примѣчали” своихъ слушателей и строго относились къ исполненію своихъ требованій по веденію конспектовъ. Къ таковымъ лицамъ волей-неволей студенты должны были ходить. Охотно посѣщали также профессоровъ, увлекавшихъ своими талантливыми и интересными лекціями, но были и такіе горе-лекторы, у которыхъ въ аудиторіи присутствовали лишь члены издательской комиссіи.
Повторяю. — надзора и учета по посѣщенію лекцій фактически не было и, надо сказать правду, — соблазнъ въ силу этого, для молодежи, только-что освободившейся отъ гимназическаго строгаго режима, получался немалый.
Къ этому надо добавить еще и то соображеніе, что по Новому Уставу 1884 года центръ тяжести провѣрокъ студенческихъ знаній сводился къ моменту государственныхъ испытаній, такъ какъ въ теченіе прохожденія курсовъ „семестровые зачеты” не могли носить характера серьезныхъ экзаменовъ, и лишь спустя нѣкоторое время были установлены т. н. полукурсовыя устныя провѣрочныя испытанія. Итакъ, въ началѣ дѣйствія Новаго Устава обычно все сводилось къ зачетамъ по письменнымъ конспектнымъ записямъ и лишь нѣкоторые профессора, болѣе требовательные, попутно при зачетахъ провѣряли студенчество еще устными дополнительными разспросами.
Все это, въ общемъ, создавало губительную обстановку „свободы жизни и дѣйствій”, понимаемую каждымъ студентомъ по-своему.
Въ результатѣ „безрежимнаго”, „бездисциплиннаго”, четырехлѣтняго пребыванія въ званіи студента университета многіе разбалтывались въ безбрежной области предоставленной имъ свободы, послѣ чего особенно тяжко бывало приступать къ конечному моменту университетской жизни — сдачѣ государственныхъ экзаменовъ, которые, кстати сказать, были также обставлены исключительно неблагопріятными условіями для оканчивавшей свой курсъ молодежи.
На юридическомъ факультетѣ всѣ двадцать предметовъ были сбиты на протяженіи лишь одного экзаменаціоннаго мѣсяца. Получалась въ силу этого чрезмѣрно напряженная мозговая работа, отрицательно отзывавшаяся на продуктивности подготовительныхъ занятій, на качествѣ экзаменаціонныхъ отвѣтовъ и на здоровьи самихъ испытуемыхъ. У нѣкоторыхъ изъ экзаменовавшихся нервная система расшатывалась до такой степени, что послѣ окончанія государственныхъ испытаній многимъ приходилось не только отдыхать, но и лечиться, а одинъ изъ моихъ товарищей чуть съ ума не сошелъ. И то сказать: чтобы только „.на скорую руку” перечитать всѣ курсовыя лекціи въ столь короткій періодъ времени, мы вынуждены были, не разгибаясь, безъ отдыха, сидѣть за исключительно-напряженной мозговой работой. Обычно по ночамъ пили мы для бодрствованія и возбужденія крѣпчайшій „черный чай”, но и онъ, подъ конецъ, сталъ терять свою живительную силу.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: