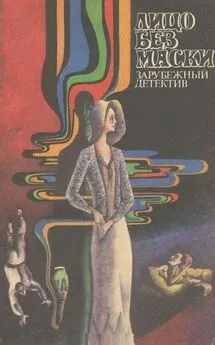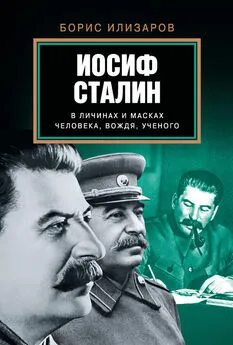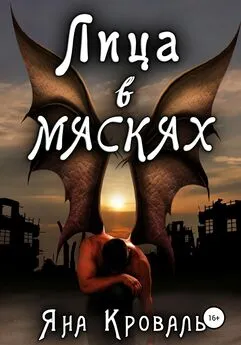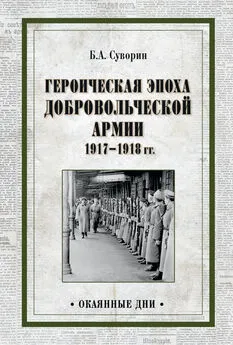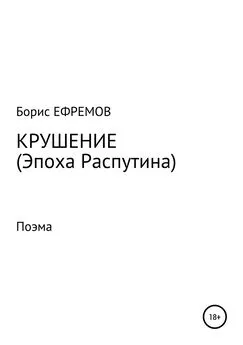Борис Панкин - Пресловутая эпоха в лицах и масках, событиях и казусах
- Название:Пресловутая эпоха в лицах и масках, событиях и казусах
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ЛитагентЦентрполиграф ОООb9165dc7-8719-11e6-a11d-0cc47a5203ba
- Год:2017
- Город:Москва
- ISBN:978-5-227-06610-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Панкин - Пресловутая эпоха в лицах и масках, событиях и казусах краткое содержание
Автор книги «Пресловутая эпоха в лицах и масках, событиях и казусах» – бывший главный редактор газеты «Комсомольская правда», бывший председатель ВААПа, бывший министр иностранных дел СССР Борис Панкин. Перед читателем проходит целая галерея образов людей неординарных: Хрущев и Брежнев, Горбачев и Ельцин, Улоф Пальме и Маргарет Тэтчер, Юрий Гагарин и Астрид Линдгрен и многие, многие другие, с которыми автору довелось встречаться на протяжении жизни. Живой и увлекательный рассказ о них составляет канву мемуаров, на страницах которых эти люди предстают в новом, подчас неожиданном ракурсе.
Пресловутая эпоха в лицах и масках, событиях и казусах - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Я подумал почти словами того латиноамериканского сериала, который появился на наших экранах вместе с перестройкой и гласностью: и властители тоже люди.
Было же, значит, что-то человеческое и в нем в нечеловеческой атмосфере, которая царила в московских верхах в те дни. Лицо Брежнева говорило мне, что продержись рыцари Пражской весны еще день, а то, может быть, и час-другой – дрогнул бы сам наш генсек. И тогда, быть может, подписали бы совсем другой документ в Москве, и развитие обстановки в Европе пошло бы совсем по другому пути.
Почему так не случилось, об этом двадцать два года спустя скажет мне Александр Дубчек. Со слезами на глазах.
В ту пору в Москве один за другим появились два романа Ивана Шевцова: «Во имя отца и сына» и «Любовь и ненависть». Сказать современному читателю, что это были бульварные романы – значит не сказать ничего. Тогда это не было еще профессиональным термином, а просто – ругательством. Под прозрачными псевдонимами Шевцов изобразил в качестве ревизионистов, читай, шутов, садистов, а то и убийц всех реальных деятелей той поры, кто хоть чуть-чуть был замечен в вольнодумстве. И наоборот, «наследники Сталина», пользуясь выражением Евтушенко, фигурировали в романах в качестве героев и мучеников эпохи. Отсюда и вывод – поскорее и посмелее кончать с наследием Хрущева и возвращаться к заветам Иосифа Виссарионовича.
Все это и вывел на чистую воду литературный критик Михаил Синельников в своей небольшого размера статье, которую он принес мне после того, как ему отказали в «Литературке», где он тогда работал. А еще раньше Александр Борисович Чаковский завернул, «по этическим соображениям», статью «На пути к премьере» Федора Бурлацкого и Лена Карпинского, сославшись на то, что они – сотрудники «Правды».
Я памфлет Синельникова, недолго думая, напечатал. Это было сенсацией, которая прожила недели три и сменилась другой, еще более громкой. «Советская Россия», редактором которой был тогда генерал Павел Московский, грохнула уже по нашему адресу. Если мы с Синельниковым предупреждали об опасности реставрации сталинизма, то из пространной публикации «Советской России» вытекало, что «Комсомолка» покусилась на ленинский курс нашей партии, ее коллективного руководителя – ЦК КПСС, который, получалось, как и Иван Шевцов, борется с волюнтаризмом и злостным очернением прошлого.
Попытка ответить была пресечена Главлитом – мы, «Комсомолка», хоть и всесоюзная газета, но младше чином, чем «Совраска» («Советская Россия»). Полемика с газетой ЦК КПСС – выступление против партии в целом.
«Голоса», как мы тогда для краткости называли «Свободу», «Голос Америки», «Немецкую волну» и другие, наперебой заговорили о новой попытке обелить сталинские времена. О том, кто и что стоит за выступлением «Советской России» против «Комсомольской правды». На разного рода казенных заседаниях, где мне по положению приходилось бывать не менее пары раз в неделю, на меня снова стали посматривать как на живого покойника.
Но и я уже кое в чем поднаторел. Пошел на Старую площадь, вошел в первый подъезд, поднялся на пятый этаж, заглянул в коморку Жени Самотейкина, референта генсека по международным делам. Тот потащил меня к Александрову-Агентову, который тут же позвонил Цуканову. Вывод был таков: пиши записку на имя Леонида Ильича. Так, мол, и так… Женя положит ее на стол Б-р-р-ежневу вместе с «белым тассом», так назывались предназначенные для узкого круга сообщения ТАСС о реакции западных СМИ на события в СССР. Генсек не любит, когда ему навешивают ярлык реставратора. Раз «Комсомолке» не положено, предложи, пусть «Правда» выступит в роли третейского судьи.
Я так все и сделал. А пока писал и ждал потом реакции, Яковлев, А. Н., как мы его в «Комсомолке» звали еще со «времен Соляника», приоткрыл для меня завесу над теми закулисными схватками, которые предшествовали публикации в «Совраске». Обнаружив упоминание о ней в плане очередного номера, которые так же, как и мы, обязаны были посылать в ЦК все «номенклатурные» газеты, он позвонил Московскому и на понятном тому языке «партийца с партийцем» посоветовал по-дружески снять статью из номера, ибо она сейчас не ко времени.
В принципе, совет, который раздавался со Старой площади, всегда воспринимался как указание. Московский, однако, не то чтобы воспротивился ему, но пустился в объяснения: дескать, Саша, ты не беспокойся. Тут все на чистом сливочном масле. Подготовили и печатаем по поручению Дмитрия Степановича, который звонил твоему подчиненному, Дмитрюку, тоже заместитель, но не первый, и велел «вдарить».
Положив в задумчивости трубку, А. Н. вызвал этого «не первого зама», и тот, став в боевую стойку, отрапортовал, что получил указание члена политбюро. О том, что указание это ему, такому же краснодарцу, как и Полянский, пришлось по душе, не стоило и говорить.
Тем же языком партийца, но уже с металлом в голосе, А. Н. напомнил, что «поручениями» прессе можно называть лишь то, что идет от коллективного органа, то есть политбюро или Секретариата ЦК КПСС, а не отдельных лиц, как бы уважаемы они ни были. И передают их в установленном порядке.
А коль скоро такового не было, надо еще раз посоветовать редактору «Советской России» прислушаться к доброму совету, который ему дан тоже не случайным лицом.
Что уж было дальше, кто кому звонил, Яковлев не знал, но на следующий день публикация таки появилась, что А. Н. счел выпадом не только против «Комсомолки», но и против него.
К моему походу на пятый этаж, о котором я поведал ему постфактум, он тем не менее отнесся ревниво, сказав, что и сами бы справились. И показал бумагу, которую он тоже отправил «наверх», квалифицировав действия Московского как нарушение партийной дисциплины.
Так или иначе, оставалось ждать, когда та или другая бумага «сработает» и как.
Первым меня позвал к себе Самотейкин. Сказал, что при докладе ему моей записки Леонид Ильич никаких комментариев не сделал. Но оставил бумагу у себя. На следующий день Самотейкин обнаружил ее на письменном столе генерального без каких-либо пометок. На третий день рискнул заметить, что надо как-то реагировать, поскольку, мол, «голоса» просто надрываются, предсказывая поворот к сталинизму. Генсек слушал нехотя, как бы даже с неудовольствием. Но ответ у него, как понял Женя, был уже готов: Панкину сказать, чтобы не нервничал. Никто его не тронет. Московскому – чтобы соблюдал принятый порядок, Полянскому – чтобы занимался своим делом, то есть сельским хозяйством, на которое его бросило политбюро. В нашей печати возвращаться к этому вопросу не надо. По линии АПН распространить на заграницу материал о том, что КПСС последовательно выступает и будет выступать против извращений и последствий культа личности.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: