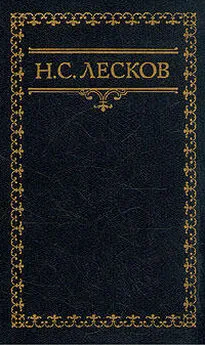Лев Данилкин - Круговые объезды по кишкам нищего
- Название:Круговые объезды по кишкам нищего
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Амфора
- Год:2007
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-367-0043
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Лев Данилкин - Круговые объезды по кишкам нищего краткое содержание
В книгу известного критика Льва Данилкина (журнал «Афиша») вошли статьи и рецензии, написанные в 2006 г. Автор рассказывает об общих тенденциях, сложившихся в русской литературе за этот период, дает оценку большим и малым литературным событиям и подводит итоги года.
Круговые объезды по кишкам нищего - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Даже по вышеприведенной цитате, однако, уже можно понять, что роман является хроникой не столько событийной, сколько идеологической – в том смысле, что главное событие века здесь не войны или путчи, а конфликт между христианством и язычеством. Авангардное искусство, фашизм и глобализация – вот то, что приключилось с христианством в ХХ веке, то, чем его подменили. История Кантора – это история про то, как христианство в ХХ веке, сохранившись формально, на деле обернулось неоязычеством.
В еще более узком смысле «Учебник» – роман о поражении России в третьей мировой и последствиях – на всех уровнях, от политики до искусства – встраивания империи, преданной «компрадорской интеллигенцией», в новый мировой порядок, в «Империю» в том смысле, который вкладывают в это слово левые философы Хардт и Негри. В еще более узком – пучок микророманов: любовного (линия Павла, его жены Лизы Травкиной и любовницы Юлии Мерцаловой), плутовского (линия Гузкина), детективных (расследование аферы с «Черными квадратами» и месть за убийство рабочего в деревне Грязь) и других.
Генезис романа. «Учебник рисования» – семейная хроника, и не в последнюю очередь эта хроника имеет отношение к семье самого Кантора. Автор считает нужным сообщить в специальном примечании, что несущая историософская концепция романа – «концепция разделения исторической материи на социокультурную эволюцию и проективную историю» – принадлежит его отцу, философу Карлу Кантору (подробно она изложена в книге «Двойная спираль истории», М., 2002). Как и его герой (или даже альтер-эго) Павел Рихтер, художник и писатель Максим Кантор родился (в 1957 г.) в русско-еврейской семье: он потомок аргентинских евреев (по отцовской линии; дед – испаноязычный драматург, профессор университета Ла-Плата в Буэнос-Айресе) и крестьян Русского Севера (по матери). Дом Канторов на Фестивальной, судя по некоторым свидетельствам, был известен в Москве; это был своего рода салон, куда съезжались интеллектуалы всех возрастов – от Александра Зиновьева до Павла Пепперштейна. Наблюдателю, запеленговавшему существование Кантора только после выхода его романа, трудно проследить, как автор пришел к такой системе взглядов. Проще всего вообразить, будто Кантор – разочаровавшийся в либеральных ценностях западник, крепкий задним умом. Однако знакомство с его публицистикой – и, немаловажно, картинами: «Смерть коммерсанта», «Государство» и проч. – 90-х говорит о том, что Кантор прошел известный, описанный им самим, маршрут – люмпен-интеллигенция, опьяненная продуктом «свобода»; компрадорская интеллигенция, очарованная возможностью продавать свои интеллектуальные продукты на рынке либеральных ценностей по высокой цене, – гораздо быстрее, чем его коллеги по цеху, и заявил о катастрофических перспективах горбачевско-ельцинского периода уже в первой половине 90-х – спровоцировав если не скандал, то недоумение: потому что сделал это в среде, где был принят иронический конформизм. Отсюда и канторовская репутация, удивительно напоминающая ту, что была у Чацкого ближе к концу пьесы.
Литературный Церетели?В начале 2006 года издательство «ОГИ», не побоявшись обвинения «не-стоит-бумаги-на-которой-это-напечатано», в пожарном порядке опубликовало канторовский роман, только что законченный.
К этому моменту у Кантора, автора сборника рассказов «Дом на пустыре» и нескольких публицистических текстов, не было достаточного веса в литературной среде, чтобы его роман, действительно в несколько раз превосходящий по объему среднестатистический, был воспринят и прочитан всерьез. Подшучивание и даже ерничанье над циклопическими размерами романа моментально стало общим местом; прочитавшие роман на все лады демонстрировали, что таким образом они сделали одолжение автору. Кантору, однако, повезло – «Учебник рисования» все же был выведен на орбиту архитектурным критиком Г. Ревзиным, который напечатал в «Коммерсанте» чрезвычайно сочувственный отзыв о романе, и дальше о нем «заговорили»; но, по большому счету, в самой литературной – то есть толстожурнальной по преимуществу – среде он так и не обзавелся статусом текста, обязательного для чтения. 1418 страниц восприняли скорее как курьез от художника, усевшегося не в свои сани, своего рода литературного Церетели, вдруг преподнесшего москвичам свою гигантскую книжку.
Это ощущение непрофессиональности подтверждалось знакомством с первой главой и усугублялось ее финальной частью, претенциозной виньеткой о Художнике (началом трактата об искусстве: «Не следует считать это время истраченным впустую – наоборот, редко когда удается обменивать минуты и часы непосредственно на вечность» и т. п.); казалось, что таким – странной комбинацией слишком резкой сатиры и слишком неуместного пафоса – будет весь роман. Дальше «критикам» достаточно было поискать неизящные, лобовые, особого желчного юмора цитаты – «впрочем, многие старые слова теперь заменили новыми: вместо „убийца“ стали говорить „киллер“, а вместо „болтун“ – „культуролог“» – и вот такого рода вырванные из контекста остроты звучали уже как диагноз самому автору.
На самом деле первая глава не является показательной; и сатирические линии, и пафос постепенно растворятся и будут усвоены в большом романном организме, и станут выглядеть уместными – но до этого, а уж тем более до канторовской философии истории, речь о которой заходит не сразу, уже мало кому было дело. По-видимому, сыграл роль и тот фактор, что многие из тех, кто были прототипами героев романа, являются и столпами общества; разумеется, их раздражала эта галерея карикатур и они усердно пожимали плечами, делая вид, что Кантор если не объявлен уже давно сумасшедшим в мире художников, то уж во всяком случае не тот человек, чье мнение их вообще интересует. В результате о Канторе «поговорили» пару месяцев и фактически забыли; когда речь зашла об итогах года, редко кто упоминал «Учебник рисования». Если где-то он и фигурировал – то в номинации «Антисобытие», и уж тут авторы «итогов» изгалялись как могли.
По сути, в общественном сознании установился стереотип: «Учебник рисования» – памфлет про канторовских конкурентов на художественном рынке. Героев слишком много; это рыхлая масса одинаково безобразных персонажей, слипающихся в один ком. Что еще? Кошмарные вставки про миссию художника. Пафос – и ладно бы только про искусство, так ведь еще и про политику и нравственность.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: