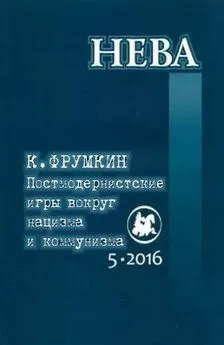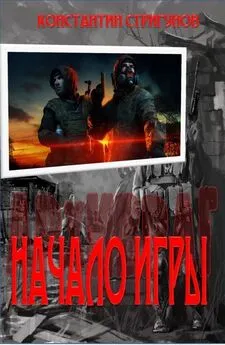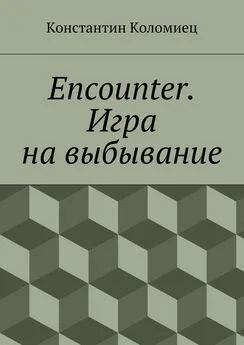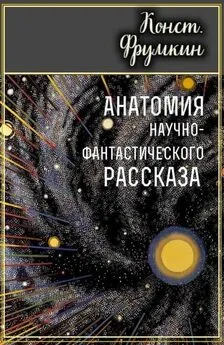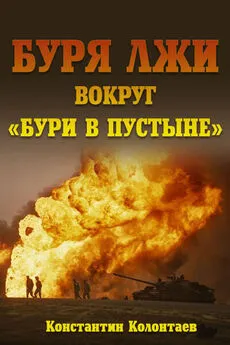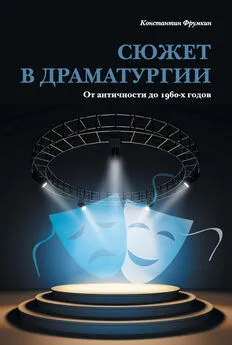Константин Фрумкин - Постмодернистские игры вокруг нацизма и коммунизма
- Название:Постмодернистские игры вокруг нацизма и коммунизма
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2016
- Город:С.-Петербург
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Константин Фрумкин - Постмодернистские игры вокруг нацизма и коммунизма краткое содержание
Постмодернистские игры вокруг нацизма и коммунизма - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Но вот альтернативно-исторических романов про фашизм и коммунизм становится все больше, и — так, по крайней мере, можно предположить — Андрей Валентинов в случае с «Нуаром» не счел возможным написать еще один, тысяча первый роман все о том же. Требовалась эстетическая инновация, и начался — пока еще медленный и несмелый — процесс уничтожения содержания формой.
Теперь обсуждение морально-политических вопросов затрудняется эстетическими усложнениями повествования, в том числе и постмодернистского свойства. Экспрессионистские видения главного героя разбавляют основное действие и уводят его в сторону от исторической интенции. Взаимоотношения коммунизма и фашизма предстают главному герою в качестве сюрреалистического сновидения, в котором беседу ведет скелет в эсэсовской форме. Самое же главное — обстановка, да и все действие романа подается как осознанная вариация на тему известного фильма «Касабланка» — фильма, снятого во время Второй мировой войны и потому вполне искренне заостренного на сопротивлении нацизму, однако вопиюще недостоверного с точки зрения деталей. Эта неточность, которая была лишь простительной небрежностью в старом фильме, в романе Валентинова превращается в доказательство иллюзорности всего происходящего. Название романа апеллирует к жанру старого кино, в тексте встречаются вставки «дикторского текста», некоторые герои, а также сюжетные коллизии романа имеют отчетливые прототипы в «Касабланке», финал романа двоится — имеется «прокатная» и «режиссерская» версии и т. д.
В литературе мейнстрима факт эстетического эксперимента не стоил бы и упоминания, но в фантастике это всегда некое «отклонение», знаменующее неудовлетворенность писателя своим нахождением в «фантастическом гетто». В случае же с Андреем Валентиновым, который, с одной стороны, является признанным мэтром жанра, а с другой — профессиональным историком, поднявшим уровень обсуждения историко-политических проблем настолько высоко, насколько это возможно в развлекательной литературе, потеря доверия к обычному способу письма заставляет подозревать утрату веры в ценность обсуждаемой исторической проблематики. Эта проблематика все еще составляет идейную сердцевину романа, однако почему-то этого недостаточно — и нехватку ценности содержания приходится компенсировать блеском оригинальной упаковки.
Пересадка нацизма
Парадокс заключается в том, что историческая эрудиция сама по себе не является гарантией серьезного отношения к истории как к среде существования человека, — может быть и наоборот, эрудиция поставляет материал для игр и умозрительных комбинаций, которые так и подмывает называть «пасьянсами».
Подобные мысли вызывает, например, еще один яркий экземпляр российской альтернативно-исторической фантастики — вышедший в 2014 году роман Дмитрия Казакова «Черное знамя».
Поднятая в «Знамени» тема одно время стараниями таких радикалов, как Александр Дугин или Эдуард Лимонов, даже была остроактуальной. Дмитрий Казаков размышляет над вопросом, возможна ли фашистская альтернатива коммунизму в русской истории ХХ века, и могла ли в России вместо социалистической революции произойти «консервативная». Образ фашистской России Казаковым проработан настолько тщательно, насколько это возможно в фантастике, о чем косвенно свидетельствуют и помещенные в конце романа справочно-биографические материалы, а также послесловие Андрея Валентинова. Приметой же декаданса является чрезмерная формалистичность, можно сказать, симметричная структурированность задачи, решаемой Казаковым.
Автор «Черного знамени» не просто рассказывает про Россию, в которой произошел консервативно-революционный переворот, — нет, он решил с достаточно высокой степенью точности перенести на историю России историю нацистской Германии. Соответственно, Россия проигрывает Первую мировую войну, подписывает унизительный мир — и далее проходит все эпизоды истории Германии вплоть до развязывания агрессии и начала войны против коалиции ведущих держав. Придание имеющемуся комплексу культурно-исторических материалов чуждой, но уже готовой структуры — это формальная задача, которая не связана с политическим мировоззрением, а имеет внутреннюю, игровую и комбинаторную логику. Ей и подчиняется повествование, и в итоге Дмитрию Казакову оказывается просто нечего сказать содержательного.
На первый взгляд «Черное знамя» — это политическое высказывание — ну, о чем бы? — ну, например, о том, что «тоталитаризм — это не хорошо». Именно этому, скажем, посвящено сопровождающее роман послесловие Валентинова. Но на самом деле всякая мысль на эту тему давно банальна, а суть удовольствия, которое здесь предполагается, в карнавальной игре по комбинированию исторически нагруженных знаков.
В «Знамени» несколько таких игр. Первая игра — воображать, как бы выглядели реалии Третьего рейха, если бы их начали реализовывать на российской почве. Партия остается партией, фюрер называется вождем, вместо СС — Народная дружина, вместо гестапо — жандармы (но в черных мундирах), вместо «условных» древних арийцев — столь же условные Чингисовы монголы, вместо «Анненэрбе» — «Наследие», вместо группенфюреров — темники, вместо министерства пропаганды — министерство мировоззрения. Можно играть, ища аналогии персон гитлеровского режима: а кто у нас вместо Гитлера? А кто вместо Геббельса? А вместо Гиммлера?
Еще одна игра: расставлять в новых реалиях людей из реальной истории. Большинство персонажей романа носят фамилии исторических деятелей, причем при новом режиме карьеру — вперемежку — сделали и те, кто в нашей реальности ее делал при советском строе, и те, кто оказался в эмиграции. Роль идеологов «нацистской партии» играют эмигранты-евразийцы, СС возглавляет умерший в эмиграции Хан Хаджиев, а первым президентом «веймарской» республики в 1917 году почему-то избирают Витте, хотя в нашей реальности его и в живых не было.
И еще одна игра — идеологическая: представлять цитаты из трудов евразийцев как лозунги правящей партии.
И детективный (впрочем, не очень лихо закрученный) сюжет, и заканчивающееся самоубийством история «прозрения» главного героя оказываются лишь поводом для панорамного путешествия по карнавалу — карнавалу, где Тухачевский сменяет генерала Корнилова на посту военного министра Вечной империи.
История ХХ века столь ярка, она сформировала столь характерные личности, что из нее легко сделать карнавал, все начать менять местами, переодевать мундиры, использовать и приемы контраста и сходства.
Политическая актуальность создает иллюзию, что этому карнавалу свойственно нечто вроде идейности, хотя торжествует главная идея постмодернизма — все возможно, и все остается тем же.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: