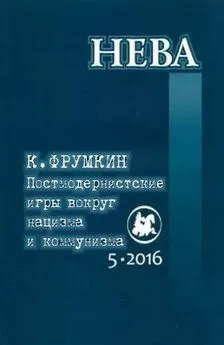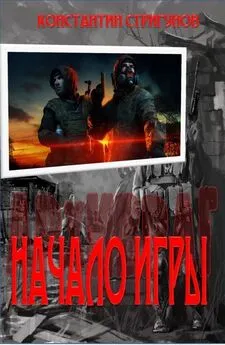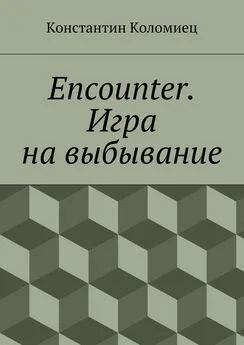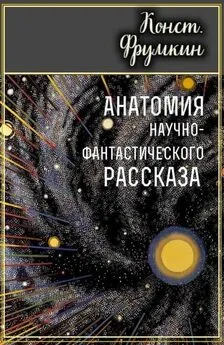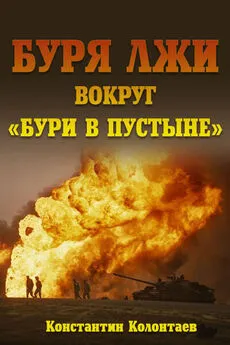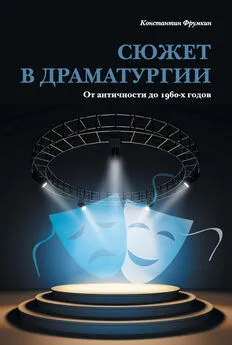Константин Фрумкин - Постмодернистские игры вокруг нацизма и коммунизма
- Название:Постмодернистские игры вокруг нацизма и коммунизма
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2016
- Город:С.-Петербург
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Константин Фрумкин - Постмодернистские игры вокруг нацизма и коммунизма краткое содержание
Постмодернистские игры вокруг нацизма и коммунизма - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Император, в отличие от Ленина, изображен скорее благоговейно, но и это благоговение превращается в карикатуру. Император предстает святым простаком, «человеком дождя», своей слабостью и бездействием изменяющим ход истории. Впрочем, как и Дмитрий Казаков в «Черном знамени», Юрий Арабов ставит перед собой формальную задачу инвертирования готовой событийной структуры — он желает повторить все важнейшие события послереволюционной российской истории, но сдвинуть их характер, поскольку на них влияет присутствие не отрекшегося от престола царя. В результате штурм Зимнего был — но поскольку дворец принадлежит царю, Временного правительства в нем не было, и штурм не имел никакого значения. Учредительное собрание не разгоняют, и оно становится при большевистском Совнаркоме оппозиционным парламентом. В Доме Ипатьева расстреливают не императора, а, наоборот, Свердлова и Сталина. Гражданской войны нет. Ленин не умирает в 1924 году, а толстеет и берет взятки за концессионные соглашения. Троцкий скучает без войны и просится в Америку.
Как и авторы других вышедших одновременно с «Бабочкой» альтернативно-исторических романов, Арабов относится к истории крайне серьезно, в конце романа имеются хотя и не биографические справки, но перечень фамилий историков, на которые опирался автор, как и многие писатели, чья политическая ангажированность бьет через край чисто литературной формы, Арабов часто переходит к публицистике, в тексте романа регулярно встречаются вполне серьезные размышления не об альтернативной, а о реальной истории. Как и многие иные произведения исторической фантастики, «Столкновение с бабочкой» порождено вполне искренним и через боль выросшим осознанием недолжного в исторической реальности. Однако единственным инструментом реализации этого осознания становится абсурд, абсурд ироничный, скорее хармсовский, чем кафкианский, наслаждение парадоксом.
В отличие от других вышедших почти одновременно альтернативно-исторических романов, «Столкновение» отрицает свое содержание и свою историко-политическую интенцию не игровой формой, а внутренней иронией и сюрреалистической — если не цирковой — комичностью событий, между строк демонстрирующей невозможность самой себя. Автор фактически признается, что только в нелепом до абсурда сновидении можно изменить то, что недолжно, и тем самым отрицает собственную задачу. Развилки истории возможно не обсуждать, а сопровождать аккомпанементом из абсурдистских анекдотов, хотя абсурд здесь и не закрывает скорбь автора — но показывает невозможность альтернативы.
Истории не существует
Именно на фоне таких фантастических романов, как «Нуар», «Черное знамя», «Столкновение с бабочкой» и «Der Architekt», то есть романов историко-политических, затрагивающих проблематику фашизма и коммунизма, следует рассматривать известный роман Марии Галиной «Автохтоны», ставший ярким литературным событием 2015 года и получивший достаточно обширную (и в основном положительную) критику. Сравнение это полезно потому, что эстетика «Автохтонов» носит ярко выраженный динамический характер, то есть невооруженным глазом видно, откуда и куда двинулся автор, роман буквально запечатлевает его в движении, в процессе эволюции художественного метода.
Исходная точка, от которой автор «Автохтонов» отталкивается, — это наша криптоисторическая фантастика, которую Галина одновременно и ложно имитирует, и разрушает, и преодолевает, не отказываясь тем не менее от некоторых реликтовых жанровых примет.
«Автохтоны» несут на себе многочисленные «родимые пятна» романа, затронутого исторической и политической проблематикой, в нем можно найти множество примет принадлежности к соответствующей литературной традиции. Однако роман расправляется с этой традицией с помощью классических методик постмодерна — с помощью иронии, с помощью отказа от концепции истины, с помощью нагромождения симуляционных культурно-исторических «материалов», которые неизменно оказываются — как и следует из духа постмодерна — лишь фальсификациями, скрывающими другие фальсификации, знаками отсылающими к знакам.
Основная мысль романа, высказанная одним из персонажей и фактически определяющая гносеологию, с позиции которой написаны «Автохтоны»: история есть то, что о ней говорят люди, а люди склонны искажать факты, фантазировать и противоречить друг другу. Типологическими персонажами «Автохтонов» являются экскурсоводы — те, что рассказывают легенды, и разобраться, что в этих легендах правда, а что выдумка, созданная в угоду туристам, совершенно невозможно. Тем не менее хотя прорваться через систему отсылающих друг к другу симулякров невозможно, но характер интереса героев, прорывающихся сквозь пелену миражей и создающих новые миражи, вполне определенен: это история ХХ века, это сложная история Западной Украины между Польшей, СССР и Германией, это фашизм и коммунизм, это судьба художников и деятелей искусства в их взаимодействии с властями, это все та же булгаковская проблематика порожденной художником магии, которая бы ему позволила выйти из задаваемых властью пределов.
В сущности, Галину не интересует ничего сверх того, что еще недавно вполне серьезно интересовало и публицистов, и историков, и политизированных писателей-фантастов. Правда, «Автохтоны», в отличие от «Черного знамени» или «Столкновения с бабочкой», нельзя отнести к «исторической метапрозе», поскольку Галина не упоминает в своем повествовании имена реальных исторических деятелей. Однако ценностная ориентация на историю все же остается, поэтому в «Автохтонах» создается искусная имитация исторических сведений и биографий исторических деятелей, которые затем становятся объектом постмодернистской иронии и скептицистских разоблачений. Тут возникает несколько слоев чисто литературных игр — например, все фамилии в «Автохтонах», как правило, «говорящие» и отсылают к известным лицам — от русского философа Шпета до персонажа Кира Булычева доктора Верховцева. Этот сравнительно маловажный литературный прием позволяет еще точнее увидеть соотносимость «Автохтонов» с выходящими одновременно альтернативно-историческими романами: ведь в произведениях Марьянова, Арабова и Кузнецова герои тоже носят фамилии исторических лиц, но у них персонажи как бы соответствуют своим историческим прототипам, в то время как у Галиной герои — тоже исторические деятели, но не имеющие прототипов — носят чужие, принадлежащие другим историческим лицам фамилии. Это отношение к фамилиям таким образом и объединяет роман Галиной с традицией альтернативноисторической фантастики и отделяет его от нее.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: