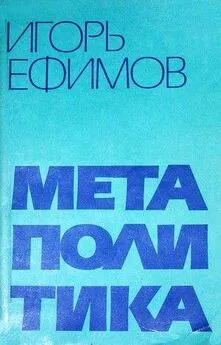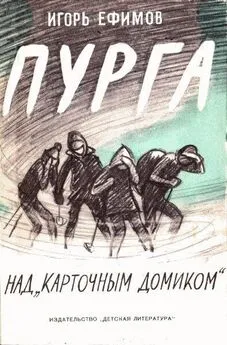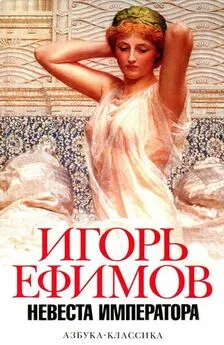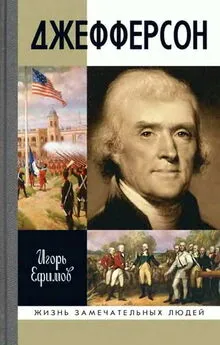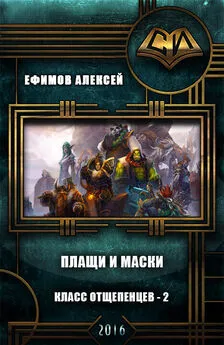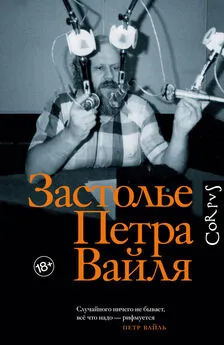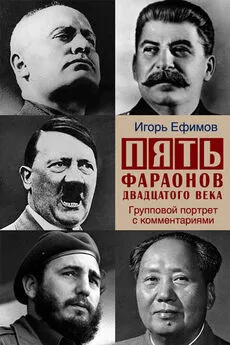Игорь Ефимов - Гении и маски. О книгах Петра Вайля
- Название:Гении и маски. О книгах Петра Вайля
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Журнал Нева №10
- Год:2013
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Игорь Ефимов - Гении и маски. О книгах Петра Вайля краткое содержание
Гении и маски. О книгах Петра Вайля - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Цветаева, Маяковский, Есенин — важные союзники, нездоровое чувство стыда, всякие там угрызения совести им либо совсем незнакомы, либо они оставлены за гранью стихов (заметим: все трое — будущие самоубийцы). Остальные поэты то и дело дают сострадательную слабину. То Блок уронит слезу на девушку во рву некошенном, на всю нищую страну Россию, на плачущую жену. То Мандельштам призовет «прославить власти сумрачное бремя» и революционный «скрипучий поворот руля». То Пастернак хочет подниматься и падать вместе с пятилеткой, а потом умирает от стыда за то, что уцелел в годы террора 10. То Бродский роняет там и тут слово «родина», «отчизна», говорит о каком-то долге перед эпохой, призывает «не топтать грань между добром и злом» 11.
Со всем этим нужно вести решительную борьбу. Лучше всего — путем умалчивания. Пусть ригористы морали вроде Карабчиевского и Ваксберга 12помнят, что талантливейший Маяковский верой и правдой служил кровавому НКВД, дружил с палачом Аграновым и разъезжал по всему свету на деньги, конфискованные у репрессированных и расстрелянных. Неважно, что Есенину хотелось «задрав штаны, бежать за комсомолом». Главное — великолепие его деепричастий в таких, например, строчках: «Радуясь, свирепствуя и мучась, / хорошо живется на Руси» (СПМ-179). Когда Пастернаковский «дурак, герой, интеллигент» красиво удалился с исторической сцены, уступил власть «темной силе» и начался террор, мы не станем мучить себя и наших поэтов вопросами: почему? Как это могло случиться? Кто виноват? Разве не ясно, что и здесь показали свою искаженную рожу главные правители мировой истории — абсурд и хаос? Как ни старайтесь, умники, философы и моралисты, не получится у вас никакой «схемы — только хаотический навал ужаса» (СПМ-359).
Конечно, сегодня объяснять все хаосом гораздо труднее, чем во времена Пастернака. Из миллионных списков «замученных живьем» все упорнее выступает простая истина: никчемные убивали энергичных, близорукие — дальнозорких, худшие — лучших. Лучших крестьян, лучших инженеров, лучших ученых, лучших командиров, лучших композиторов, лучших писателей и даже — самоубийственно! — лучших врачей. Вайль и сам приводит слова провидца Мандельштама, сказанные им жене посреди террора: «Уничтожают у нас людей в основном правильно — по чутью, за то, что они не совсем обезумели» (СПМ-187). Но потом возвращается на свою абсурдистскую стезю и настаивает на том, что «логика репрессий ставит в тупик» (СПМ-358).
Вся эстетика рождается из возгласа «Как ты красив, проклятый!» Вся этика — из стона «Как тебя жалко, бедный!». Импульс сострадания к измученному, голодному, темному народу пронизывает всю русскую культуру — от Радищева до Бродского. Миллионы российских интеллигентов рвались помочь, спасти, просветить, облегчить участь простого человека — как умели, как могли. Но нередко болезненный укол иглы сострадания пытались просто анестизировать морфием любви.
«Россия, нищая Россия, / мне избы серые твои, / твои мне песни ветровые — как слезы первые любви!» ( Блок ).
«Сквозь… годы войн и нищеты / я молча узнавал России / неповторимые черты. / Превозмогая обожанье, / я наблюдал боготворя…» ( Пастернак ).
«Не стыдись, страна Россия, / ангелы всегда босые…» ( Цветаева ).
Классикам вторит Гандлевский: «Раз тебе, недобитку, внушают такую любовь / это гиблое время и Богом забытое место…». (Эти строчки Вайль приводит после великолепной — в стиле «малых голландцев» — зарисовки «Барахолка на станции Марк», СПМ-647.)
Но если мы отбросим привычные критерии доброты, честности, справедливости, сострадания, долга, чем же тогда будет определяться ценность человека? А вот чем: достоинством. Достоинством, с которым человек принимает свое неизбежное одиночество и неизбежную скуку существования. О стихах Гандлевского: «За этой интонацией — без гнева и пристрастия — правда, потому что речь о себе, о своей ответственности за судьбу. Твоей ответственности за твою судьбу». (СПМ-606) А вот о себе: «К позиции — все сам, никто не поможет — пришел самостоятельно [еще до чтения стихов Георгия Иванова]. Жизнь привела». (СПМ-391)
(Неугомонный зануда: «Значит ли это, что Клюев, Шаламов, Заболоцкий, Олейников, Мандельштам просто безответственно обошлись со своей судьбой, легкомысленно загремели в лагерь? А „все сам, никто не поможет” — это написано кем? охотником за пушниной? ныряльщиком за жемчугом? золотоискателем с Клондайка? Или человеком, все же всю жизнь существовавшим на зарплату?»)
Наконец, третья морока— тоска человеческой души по Высокому. Размышляя о Бродском, Вайль пишет: «Нечто необычное происходило в мальчике, который на уроке в восьмом классе встал из-за парты и вышел из класса — чтобы никогда больше не возвращаться в школу. Нечто побудило молодого человека произнести в советском суде слова о Боге и Божественном предназначении» (СПМ-487).
Суть этого «нечто» не уточняется, не анализируется. Пожалуй, это единственное место в книге, где порыв человеческой души к Высокому (в терминологии Бродского — «взять нотой выше») описан как некая реальность, заслуживающая уважения. Гораздо чаще он изображен как фальш, поза, срезан насмешкой, принижающим эпитетом, пародией.
Высокая тайна любви-влюбленности, «темная вуаль», «упругие шелка», «древние поверья», «в кольцах узкая рука»? А вот Вайль уже в молодости догадался, что Блоковская Незнакомка — это просто блядь, зашедшая в ресторан (СПМ-57).
Девушки из сборочного цеха реагируют на стихи Северянина хохотом и репликой тоже в рифму: «Ни хуя себе струя!» (СПМ-91).
И не потому ли так полюбилось автору стихотворение Бродского «Пьяцца Маттеи», что там счастливый соперник не просто уводит отбитую у поэта возлюбленную погулять, но «ставит Микелину раком»? (СПМ-610)
Ради эффектного бурлеска не грех и раздвинуть границы строгой документальности. В какой это «юности» Довлатову и Бродскому довелось выпивать вместе, да еще с продавщицами из гастронома? (СПМ-59) Дон-Жуанский список Бродского может оказаться — при вскрытии через пятьдесят лет — подлиннее Пушкинского, но вкуса к продавщицам никто за ним не замечал. (Вайль сам сознается, что довлатовские байки — не самый надежный источник информации.) «По признанию Блока, у него таких женщин было 100–200–300» СПМ-59). И кто из читателей вспомнит, что в подлинной дневниковой записи у Блока перед этими цифрами стоит «не»: «У меня женщин не 100–200–300 (или больше?), а всего две: одна — [жена] Люба, другая — все остальные» 13.
Но главное — обойти молчанием порыв поэтов к запредельно высокому, к Непостижимому и Грозному, к Творящему и Разрушающему. То есть к Богу.
Воплем Иова история русской поэзии прострочена от начала до конца.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: