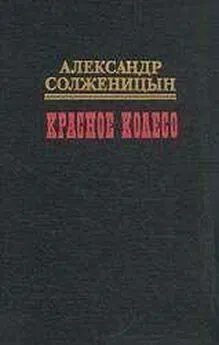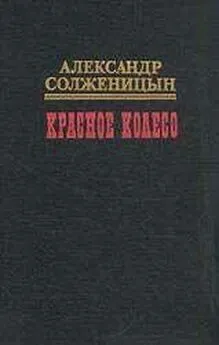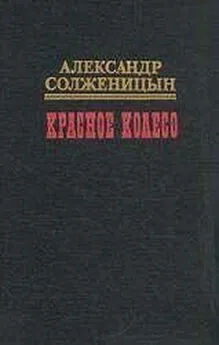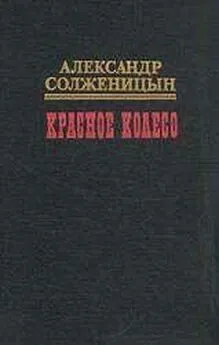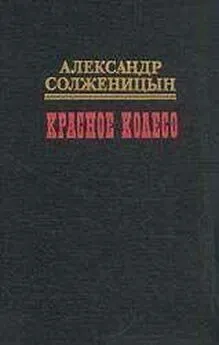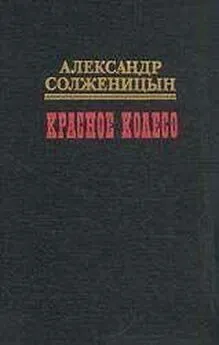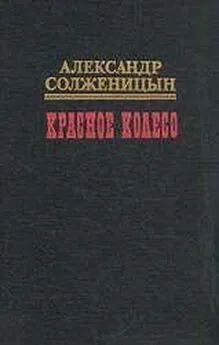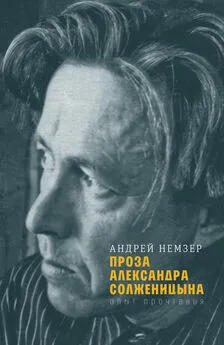Андрей Немзер - «Красное Колесо» Александра Солженицына. Опыт прочтения
- Название:«Красное Колесо» Александра Солженицына. Опыт прочтения
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Время
- Год:2010
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9691-1014-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Немзер - «Красное Колесо» Александра Солженицына. Опыт прочтения краткое содержание
«Красное Колесо» Александра Солженицына. Опыт прочтения - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
5
Солженицын А . Пьесы. М., 1990. С. 244, 152.
6
Это отождествление в дальнейшем становится все более сомнительным. Мы обманываемся и прозреваем вместе с героем. Подойдя к «открытому» финалу «Красного Колеса», внимательный читатель должен усомниться в том, что Андозерская – истинная суженая Воротынцева.
7
Приведем лишь один, но очень показательный пример: «Скончавшийся изуродованный был рядовой запаса Гимазетдин, кричавший в лесу офицер – его сын, подпоручик Галиуллин, сестра была Лара, Гордон и Живаго – свидетели, все они были вместе, все были рядом, и одни не узнали друг друга, другие не знали никогда, и одно осталось навсегда неустановленным, другое стало ждать обнаружения до следующего случая, до новой встречи» ( Пастернак Б. Собр. соч.: В 5 т. М., 1990. Т. 3. С. 120).
8
Еще в лагерном 1948 году будущий автор «Красного Колеса» отчеканил: «Когда я горестно листаю / Российской летопись земли, / Я – тех царей благословляю, / При ком войны мы не велели» ( Солженицын А. Дороженька. М., 2004. С. 218).
9
Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 10 т. Л., 1978. Т. 6. С. 436. На протяжении «Путешествия в Арзрум» Пушкин, разумеется, сложно варьирует «горную» символику (что уже становилось и еще может стать предметом изучения); здесь важно отметить наличие «рамки». Увидев горы после долгой разлуки, повествователь констатирует их неизменность (подразумевается сравнение с теми переменами, которые произошли и в жизни страны, и в жизни самого поэта). Покидающему Кавказ (на последнюю ночь пришлась буря) странствователю близ Казбека открывается прощальное «чудное зрелище»: «Белые, оборванные тучи перетягивались через вершину горы, и уединенный монастырь, озаренный лучами солнца, казалось, плавал в воздухе, несомый облаками». Готовя «Путешествие в Арзрум» к печати, Пушкин, несомненно, предполагал, что читатель распознает в процитированном фрагменте отсылку к уже опубликованному стихотворению «Монастырь на Казбеке», что резко усиливает контраст мира дольнего, куда поэт возвращается, и влекущего, но пока недостижимого мира горнего: «Далекий, вожделенный брег! / Туда б, сказав прости ущелью, / Подняться к вольной вышине! / Туда б, в заоблачную келью, / В соседство Бога скрыться мне!..» (Там же. Т. 6. С. 476; Т. 3. С. 134).
10
Толстой Л. Н . Собр. соч.: В 20 т. М., 1961. Т. 3. С. 174. Заметим, что у Толстого горы открываются Оленину ясным утром (ср. «зорное утро» Солженицына) и возникает мотив оптического обмана (мнимой близости гор), также Солженицыным повторенный.
11
Лермонтов М. Ю . Соч.: В 6 т. М.; Л., 1957. Т. 6. С. 261, 327, 331, 322.
12
Лермонтов М. Ю . Полн. собр. стихотворений: В 2 т. Л., 1989. Т. 2. С. 61, 76, 39, 489, 54.
13
Газетные фрагменты, представленные в главе 7'', фиксируют общий переход от мира к войне. Разумеется, рекламные объявления, с которых начинается коллаж, не приурочены к какому-либо локусу, а исторические события, освещаемые далее, происходят преимущественно в столицах и на открывшемся театре военных действий. Важно, однако, что читает эти самые газеты (и проникается их оптимизмом) Роман Томчак (9) – газетная глава встроена в контекст сплотки глав «дофронтовых», северокавказских. Примечательно, что открывается газетный монтаж объявлением «ЖИВОЙ ТРУП тот, кто не знает волшебного действия лециталя…». В рекламе используется вульгарно вывернутое речение Толстого (название его трагической пьесы о грешном, но живом человеке в мертвом казенном мире). Тот же оксюморон (опять-таки со значением сдвинутым, но зловеще) служит прозвищем одного из главных виновников самсоновской катастрофы – генерала Жилинского. На совещании у великого князя (заключительная глава Первого Узла) «Воротынцева крутило и жгло. Во всей России, во всей воюющей Европе никто ему не был так ненавистен сейчас, как этот Живой Труп » (82).
14
Ср. в навеянном эйфорией начала войны стихотворении Мандельштама «Европа»: «Европа цезарей! С тех пор, как в Бонапарта / Гусиное перо направил Меттерних, – / Впервые за сто лет и на глазах моих / Меняется твоя таинственная карта!» ( Мандельштам О . Полн. собр. стихотворений. СПб., 1995. С. 121).
15
«Лишь это узкое братство генштабистов (к которому принадлежит Воротынцев. – А. Н .) да ещё, может быть, кучка инженеров знали, что весь мир и с ним Россия невидимо, неслышимо, незамечаемо перекатились в Новое Время, как бы сменив атмосферу планеты, кислород её, темп горения и все часовые пружины. Вся Россия, от императорской фамилии до революционеров, наивно думала, что дышит прежним воздухом и живёт на прежней Земле, – и только кучке инженеров и военных дано было ощущать сменённый Зодиак» (12). Здесь автор словно бы договаривает за героя, делая логичные выводы (по контрасту и с учетом реальностей ХХ века, которые Воротынцев предчувствует, а автор знает доподлинно) из грустных размышлений полковника о штабной дури, профессиональной слабости генералитета, общем презрении к военной науке, правиле старшинства при чинопроизводстве и прочей привычной и губящей армию рутине. Генерал Артамонов, в корпус которого скачет Воротынцев, очень скоро «проиллюстрирует» действиями «общие соображения» генштабиста – зловеще выразительно и, увы, неоспоримо.
16
Здесь не могут не вспомниться размышления толстовского Кутузова после Бородинского сражения: «Но этот вопрос интриги (Бенигсена, настаивающего на новом сражении под Москвой. – А. Н .) не занимал теперь старого человека. Один страшный вопрос занимал его <���…> “Неужели это я допустил до Москвы Наполеона, и когда же я это сделал?”» И далее, отдав приказ об отступлении («властью, врученной мне моим государем и отечеством»), Кутузов думает «все о том же страшном вопросе: “Когда же, когда же наконец решилось то, что оставлена Москва? Когда было сделано то, что решило вопрос, и кто виноват в этом?”
– Этого, этого я не ждал, – сказал он вошедшему к нему, уже поздно ночью, адъютанту Шнейдеру, – этого я не ждал! Этого не думал!» ( Толстой Л. Н. Собр. соч.: В 20 т. М., 1962. Т. 6. С. 309, 314).
Разница в том, что Кутузов уверен в своей правоте и будущей победе («Да нет же! Будут они лошадиное мясо жрать, как турки…»), а Самсонов – в будущих поражениях. Как рисующий Кутузова Толстой не может отвлечься от своего (и общего) знания об итогах Отечественной войны, так и Солженицын строит образ уходящего Самсонова с учетом печального (и тоже известного) будущего. Следует отметить, что Самсонов отнюдь не играет в толстовского Кутузова, как оправдывающий красивой «аналогией» свои трусость и карьеризм генерал Благовещенский (53).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: