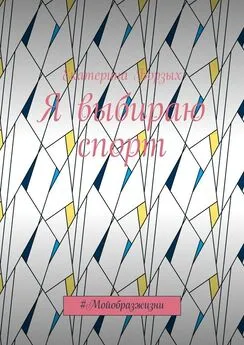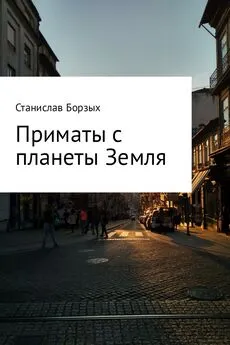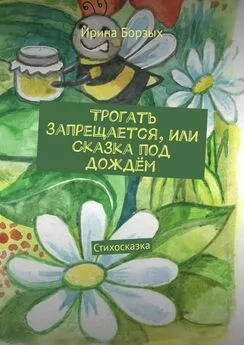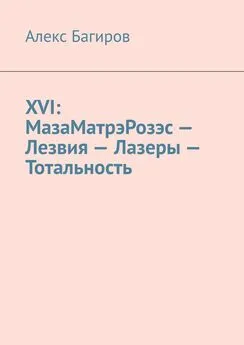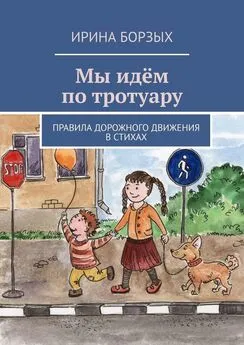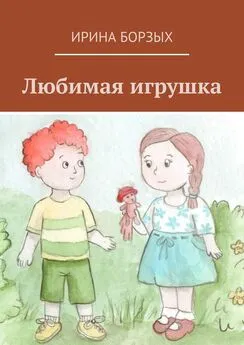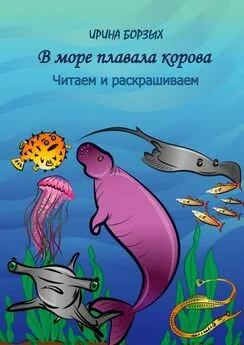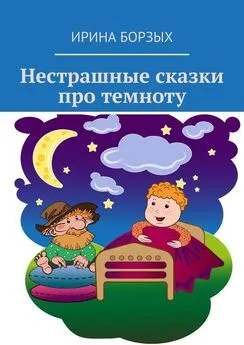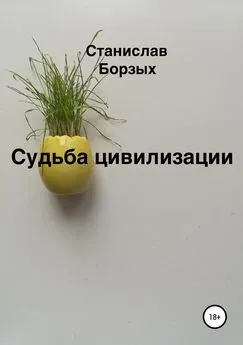Станислав Борзых - Тотальность иллюзии
- Название:Тотальность иллюзии
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array SelfPub.ru
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Станислав Борзых - Тотальность иллюзии краткое содержание
Тотальность иллюзии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В-третьих, язык постоянно сталкивается с проблемой сочетаемости. Не все звуки, жесты, движения и т.п. могут следовать друг за другом. Опять же в силу устройства нашего организма мы не способны производить и воспринимать некоторые смысловые цепочки. По крайней мере, отчасти данное ограничение снимается в письменности, но и здесь, увидев, необычные и непривычные для себя сопоставления, всякий из нас окажется в трудном положении расшифровки и опознания наблюдаемого. И даже бы если мы смогли научиться различать крайне тонкие нюансы, это бы не сняло проблемы придания им на этот раз более узкого диапазона. Это, кстати, нередко наблюдается в песнях – исполнитель не всегда чётко артикулирует свою речь.
В-четвёртых, со всей очевидностью существует лимит на величину слов. Мы стеснены в способности запоминать сколь угодно длинные цепочки единиц, обозначающие какие-то отдельные предметы или явления, что сокращает количество слогов в слове. Разумеется, есть примеры обратного. Так, скажем, в немецком языке все числительные пишутся слитно и, по сути, нет предела их продолжительности. Но в действительности говорящие по-немецки делят их на более удобные для восприятия части, но уже в устной форме. Это же соображение подкрепляется тем фактом, что и предложения носят конечный характер просто потому, что при достижении определённого уровня сложности и комплексности начинают разлагаться на свои составляющие.
И, в-пятых. Каждый язык задействует не все доступные ему средства выражения, но лишь часть из них. Например, в русском нет деления между долгой и длинной «и», тогда как в английском оно присутствует. Первоначально дети способны различать эту переменную, но затем, в ходе социализации, русскоязычные теряют эти навыки, а англоговорящие напротив, сохраняют их. Можно также упомянуть щелчки, свисты и многое другое. Данное обстоятельство с трудом поддаётся объяснению, хотя и соблазнительно предположить, что отсев осуществляется не потому, что культура так хочет, а потому, что использование всего багажа чересчур осложнило бы задачу усвоения любого языка. Как бы то ни было, но должно быть понятно, что ограничения имеют не только естественный, но и искусственный характер. Однако прежде чем приступить к последнему, необходимо вначале разобраться с другой группой пределов, которые почти неизбежно присутствуют в каждом языке.
Технические ограничения вписаны в саму природу любой коммуникационной системы, однако последняя существует не изолированно, а также не статично, что непременно отражается на её структуре и составе её элементов. Данные обстоятельства, по сути, могут быть сведены воедино просто потому, что влияние извне, а также и изнутри сходны друг с другом по силе, производимому эффекту и иным параметрам. Впрочем, я всё же разделю их ради удобства рассмотрения, но при этом повторюсь, что их действие в реальном мире спаяно в одно целое.
Как и в случае с культурами, языки контактируют друг с другом. В этом можно убедиться, просто посмотрев на предыдущий текст и обнаружив в нём заимствования из иностранных коммуникационных систем. Существуют правила подобных одолжений, предпочтения, отдаваемые тем или иным словам или понятиям, и многое другое, что и определяет внесение новых единиц в состав языка. Сомнительно, чтобы в мире присутствовал хотя бы один язык, не взявший что-нибудь из другого.
Данное обстоятельство имеет ряд последствий. Содержание коммуникационной системы меняется. Одни слова или понятия могут исчезнуть, будучи смещёнными пришельцами, другие использоваться с ними на равных, третьи приобретут новое значение. На самом деле существует огромное количество вариантов развития событий. Но важно следующее. Взятие на вооружение чего-либо созданного вне языка неизбежно влечёт за собой изменение его структуры и принципов функционирования, что явно выходит за границы простого повтора. И даже если ничего подобного не происходит, чужое, хотя бы некоторое время, остаётся таковым. Конечно, сегодня сложно, если вообще возможно проследить корни всякого слова, но когда-то они, тем не менее, появлялись и столь же очевидно воздействовали на своих хозяев.
Но взаимодействия языков, разумеется, не ограничиваются исключительно заимствованиями, хотя последние и представляют собой наиболее обширный материал для исследования. Не менее важной стороной таких контактов может служить знание о том, что собственные обозначения и понятия не единственные в своём роде. Слушая иностранную речь, часто удивляешься тому, как люди понимают друг друга. Бессмысленный на взгляд профана набор звуков или иных единиц кажется удручающе однообразным, хотя в действительности таковым не является.
Люди склонны с подозрением относиться к тому, чего они не понимают. Изучая чужой язык, мы погружаемся в его мелодику, механизмы и функциональные особенности, что расширяет наш кругозор и придаёт ему новые оттенки и краски. И даже если мы не прилагаем никаких усилий для того, чтобы осознать смысл незнакомого, мы, тем не менее, всегда оказываемся поставлены перед неудобным фактом наличия множества альтернативных обозначений реальности.
Нередко человек вообще делит всех остальных на своих и чужих, пользуясь маркером языка. Это может иметь разные последствия, но наиболее интересующие нас – это, безусловно, подражание, пусть и исковерканное и неверное, а также желание и стремление более полного изучения собственной коммуникационной системы. Всё это, естественно, оказывает влияние на родной язык.
Особым случаем контактов выступает изоляция. Несмотря на кажущуюся бессмысленность такого заявления, оно, тем не менее, имеет глубокое значение. Язык, лишённый возможности взаимодействия со своими собратьями становится заложником того, что лучше всего было бы обозначить термином «внутренняя логика». Не имея альтернативных источников описания реальности, одиночка неизбежно сталкивается с проблемой развития, что часто приводит к ригидности и закоснению некоторых специфических черт, а также к отрыву от, собственно, описываемого (см. ниже).
Наконец, последним, но не по важности, внешним фактором преобразования языка выступает влияние случайных событий. Возникновение новых вещей или явлений подталкивает коммуникационную систему к выработке новых способов или единиц их обозначения. Нередко, разумеется, язык попросту использует старые слова. Так, скажем, немцы называют бегемота нильской лошадью в буквальном переводе. Но есть и случаи обратного. Например, «хулиган», получивший своё содержание благодаря привязке к изначально другому понятию, «цинизм», связанный с Диогеном, «Енисей», сузивший первоначальный смысл, и многие другие.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: