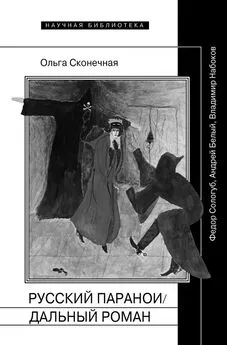Ольга Сконечная - Русский параноидальный роман. Федор Сологуб, Андрей Белый, Владимир Набоков
- Название:Русский параноидальный роман. Федор Сологуб, Андрей Белый, Владимир Набоков
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «НЛО»
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-0418-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ольга Сконечная - Русский параноидальный роман. Федор Сологуб, Андрей Белый, Владимир Набоков краткое содержание
В оформлении обложки использованы иллюстрации А. Белого к роману «Петербург». 1910. ГЛМ.
Русский параноидальный роман. Федор Сологуб, Андрей Белый, Владимир Набоков - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Но духи искусства, по законам магии, могут обратиться против владеющего ими. Одна из болезненных сологубовских тем – тема автопортрета как разоблачающего зеркала, тема героя, порочащего автора, тема идентичности, самообнаружения и самозванства [313]. Отметим, как настойчиво возникает она в период «Мелкого беса». В статье 1905 года Сологуб примеряет ее к Грибоедову, самым полнокровным, убедительным персонажем которого оказывается Молчалин: «Один Молчалин жив и верен себе, один он не только говорит, но и действует, – музицирует с Софьей, ездит верхом и падает с лошади, делает подарки Лизе, предпринимает, строит планы, рискует и в ненамеренных словечках открывает свою сущность» [314]. Он – «душа» автора, по убеждению Сологуба, а Чацкий – только его «ум и мысли». Иными словами, Чацкий – рупор, выразитель авторского сознания. В этом своем качестве он бледен, поверхностен. Он – только «ширма». Молчалин же – плод «ненамеренного», ибо в данном случае «ненамеренность» может быть адресована как проговаривающемуся герою, так и раскрывшемуся автору. Последняя правда и звучит в этом ненамеренном, невольном, неосознанном. Молчалин «жив» и объемен, так как заряжен тайной его создателя, которая объявляется помимо воли последнего. В доказательство Сологуб сличает молчалинский портрет с портретом Грибоедова и видит: черты сошлись. Разоблачение удалось, и в качестве разоблачителя Сологуб дистанцируется от опасной коллизии и даже укрепляет свои рубежи властителя, который видит других насквозь. Тема, однако, отзывается вновь и теперь в связи с его кумиром, Пушкиным, выдавая свою глубоко личную природу. Значимость ее подчеркивается тем, что в статье 1907 года «Демоны поэтов» она повторяет некогда проигранный мотив, но повторяет с обратным знаком. Так, в юбилейной речи Сологуб прославляет Пушкина за точность творческой алхимии, за умение измерить, взвесить элементы души: «…человек пламенных страстей и холодного ума, в себе нашедший меру для каждого душевного движения, на точнейших весах взвесивший добро и зло, правду и ложь, ни на одну чашу весов не положивший своего пристрастия, – и в дивном и страшном равновесии остановились они…» [315]В этом знании мер Пушкин оказывается гением отстояния, упорядоченности, гением границы и контроля. И именно эти качества изменяют ему в сологубовской трактовке времен «Мелкого беса». Неумение сохранить дистанцию, соблюсти строгое разделение творческих эмоций, развести по сторонам иронию и лирику разрушает спасительную ограду авторского «я» и впускает в них демона. Этот демон оказывается клеветником, подменяющим лик создателя, самозванцем, претендующим на чужую самость, но также и подлинной изнанкой пушкинской души. По «недосмотру» Пушкин оказывается во власти своего Савельича, этого «беса» холопства, который очерняет, искажает образ своего создателя, заражая его собственной низкой природой. «И черта за чертою в холопском Лике повторились черты поэта. Дьявольски-искаженное отражение, – но, однако, наиболее точное из всех» [316]. Вместе с Савельичем входит в душу поэта яд несовпадения с самим собой, яд «других». Ибо Савельич воплощает преклонение перед «другими», желание быть как другие, измену самому себе. Он утверждает власть обмана, царящего, по Сологубу, в мире Пушкина, обмана и самозванства, жертвой которого становится сам поэт.
Именно этим статусом обладает и сологубовский «бес». Само это слово обретает в контексте темы Савельича специфическое звучание. Бесовское в Передонове – это темный, искаженно-пародийный и, вместе, подлинно-затаенный образ его создателя, немедленно узнанный критикой. И подобно Передонову, который боится, как бы его не подменили Павлушкой, всеми силами защищая свое место в жизни, Сологуб бранит критиков, объединяющих его с персонажем, стремится не совпасть с бесовским образом, противостоит вытеснению себя Передоновым. Его герой покидает сферу идеальных созданий и делается компрометирующей реальностью, позволяющей оспаривать идентичность создателя и сводить с ним счеты: «Если, например, не нравится критику Передонов, так он пишет, что Передонов, – это, мол, сам автор и есть» [317].
Но принял ли автор те предохраняющие от наваждений меры, в несоблюдении коих укорял Пушкина, отделил ли как следует «иронию» от «лирики»? Кажется, нет. Напротив, он создал удивительное смешение элементов, удивительную форму, где герой оказывался причастным стихии бытового, анекдотического; форму эту Сологуб, по его словам, брал «не из себя», но также, странным образом, соприкасался и со стихией рокового, трагического и вступал в магический авторский круг. При этом в «Мелком бесе» решалась сложнейшая художественная задача: изобразить безумное сознание при сохранении «объективного» повествования. Она осложнилась тем, что сознание, несущее функцию безумия как изменения данности, ничтожно и уродливо и никак не должно входить в лирическое измерение творца. Не должно, но, неся в себе переживание «другой воли» и свойство «преображения», все-таки вступает. Передоновское безумие искажает, но и разоблачает и, значит, уничтожает видимость, приводит к искомому небытию. Так, внедряя в картину нравов трагическое, соединяя изображение с «преображением», Сологуб разрушает дистанцию, отделяющую автора от творения, и оказывается этим творением преследуем, как Достоевский, по версии Вяч. Иванова, или как дионисийский художник у Ницше.
По-видимому, этот процесс отозвался в идее Бахтина, констатирующего «кризис авторства в прозе от Достоевского до Белого»: «Расшатывается и представляется несущественной самая позиция вненаходимости, у автора оспаривается право быть вне жизни и завершать ее. Начинается разложение всех устойчивых трансгредиентных форм» [318]. Но, находясь внутри «разложения» повествования, внутри кризиса авторства, художник как будто ему противостоит, утверждая свою власть, соперничая с героем. В этой странной колеблющейся дистанции, в траектории соединения-противопоставления создается пространство, в котором автор и его персонаж преследуют друг друга.
Глава 4
Андрей Белый
Те, кто стоит за ними
Андрей Белый неустанно декларировал свое презрение к психологии, которая в его глазах имела невысокий статус «частной науки», не могла осветить тайн сознания и, значит, подняться до мировоззренческих высот [319]. Но стиль мысли Белого, «ритм» его полемик, воинственный строй поэтики обнаруживали особенную близость процессам психики, которая обретала наглядную жизнь в его творчестве [320].
Психогенность текстов бросалась в глаза современникам. Белый не может создать «совершенного произведения», ибо «сам он, как художник, не возвышается над той стихией, которую изображает, не преодолевает ее, он сам погружен в космический вихрь и распыление, сам в кошмаре», – утверждал Н. Бердяев [321]. «За ним подглядывали, его выслеживали, его хотели сгубить в прямом смысле и еще в каких-то смыслах иных», – замечал Ходасевич. «Эта тема, в сущности граничащая с манией преследования, была всегда ему близка. По моему глубокому убеждению, возникла она еще в детстве, когда казалось ему, что какие-то темные силы хотят его погубить, толкая на преступление против отца. Чудовищ, которые были и подстрекателями, и Эринниями потенциального отцеубийства, Белый на самом деле носил в себе, но инстинкт самосохранения заставил отыскивать их вовне, чтобы на них сваливать вину за свои самые темные помыслы, вожделения, импульсы» [322]. За прихотливой декорацией романов с «провокацией», революцией, «подстрекателями» и «подсматривателями» Ходасевич рассмотрел «вылезание» этих «выношенных» героем и автором «чудовищ». «Борьба с ними, то есть с носимым в душе зародышем предательства и отцеубийства, сделалась на всю жизнь основной, главной, центральной темой всех романов Белого. ‹…› Ни с революцией, ни с войной эта тема, по существу, не связана и ни в каком историческом обрамлении не нуждается». Сама демонизация истории, им производимая, вырастала из маленьких семейных ужасов. «За спиной полиции… ему чудились инспираторы потустороннего происхождения. Обывательский страх перед городовым, внушенный ему еще в детстве, постепенно приобретал чудовищные размеры и очертания. Полиция всех родов, всех оттенков, всех стран повергала его в маниакальный ужас, в припадках которого он доходил до страшных, а иногда жалких выходок» [323].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: