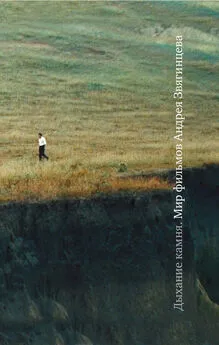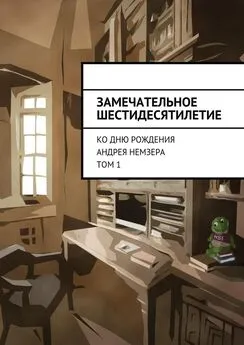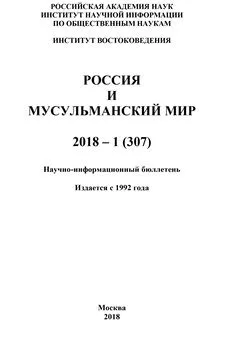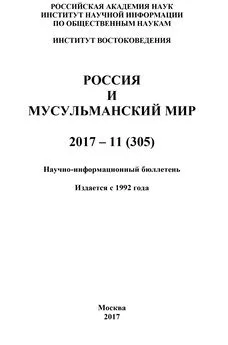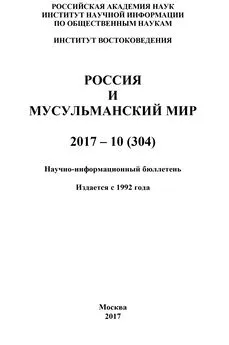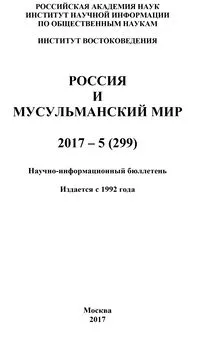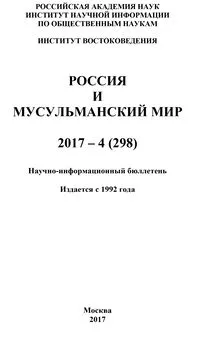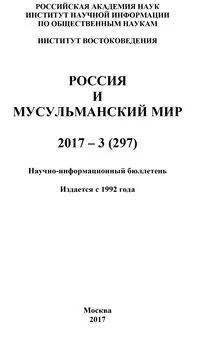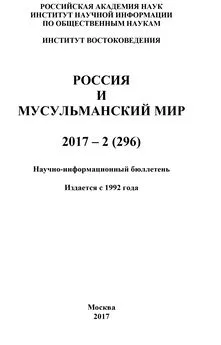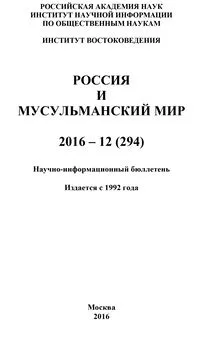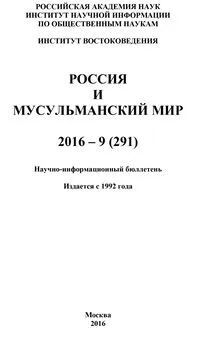Коллектив авторов - Дыхание камня: Мир фильмов Андрея Звягинцева
- Название:Дыхание камня: Мир фильмов Андрея Звягинцева
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «НЛО»
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-0396-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Коллектив авторов - Дыхание камня: Мир фильмов Андрея Звягинцева краткое содержание
Дыхание камня: Мир фильмов Андрея Звягинцева - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Актерский аскетизм, где почти все происходит в молчании, в скупости жеста, в сокрытии, лишь однажды окажется взорванным, когда Алекс с криком упадет на пол. И это будет точкой высшей боли, почти смерти.
Но именно отсюда, из зловещей темноты внутреннего ада, начнется процесс “пробуждения” Алекса, выхода из состояния духовной комы.
Уходит Вера, и почти тут же уйдет и Марк. Ему останется сделать только одно – “похоронить Веру”. Как точно в фильме вдруг обозначится та невидимая связь, то нездешнее сходство между этими персонажами! “Гроб простой. Рубашка – что на ней. Никакого макияжа. Не трогать ее”, – эти инструкции, которые дает Марк ритуальным служащим, точнее всего свидетельствуют о посвященности Марка и о сущности этих персонажей.
Похоронив Веру, Марк уходит из жизни стремительно. “И это правильно”, потому что его работа завершена. И Марк, и Вера сделали то, зачем пришли. У каждого – своя задача. Теперь они оба уходят.
Завершается этап развития, завершается очередной цикл.
Все, что было, уходит, образуя болезненную пустоту, пробуждая невыносимую тоску и неведомую ранее нехватку. Это особое мрачное болевое переживание пустоты растягивается и расширяется, заполняя все пространство человеческой души.
Эти состояния раскрываются в фильме в эпизоде “умирающего”, уходящего в темноту Дома. Сначала доктор по просьбе Алекса затворяет окна изнутри, запирает двери и выходит наружу, чтобы закрыть громоздкие ставни. При этом камера остается внутри Дома, чтобы дать нам возможность ощутить эту уходящую жизнь, пустоту и всепоглощающую темноту.
Эти кадры полны суггестии. Откровенная дискурсивность камеры, одухотворяя жизнь Дома, “пишет” затухание этой жизни, закрывание, погружение, соотнося с процессами исследования себя, постижения пустоты и смерти внутри себя, прежде чем прольется свет духовного зрения.
Процесс духовного пробуждения открывается эпизодом спящего в машине Алекса. Экран наполняется звуком – шум начинающегося ливня и оглушительный гром пробуждают воспоминание о “Спасе” Рублева в фильме Тарковского.
Этот кульминационный, катартический эпизод пронизан пластической и звуковой “памятью” о мире Тарковского: и грозные удары грома, и шум очистительного ливня “Рублева”, крупный план лица спящего Алекса и дрожащий трепет напоенной зеленью листвы.
Камера открывает завороженному взгляду Оживший Источник, воды которого вновь устремляются вниз по склону, чтобы напоить собой и оживить все пространство до самого Дома и сам Дом.
Движение камеры над водой, “всматривание” в воду, откуда выступают, просвечивают предметы, коренья, пятна – разрозненные фрагменты прошлого, которые уносит поток…
Эпизод рождает образ “пробуждения”, “очищения” и “обновления”, знаменуя начало того самого процесса, который определял собой весь ход событий.
Характерно, насколько метафора пробуждения, ожившего источника переживается не как внешняя по отношению к персонажу “фигура”, а как внутренний процесс.
Та часть фильма, которая, на первый взгляд, может показаться “флешбэком” (эпизод суицида Веры), структурируется как реальность, открывающаяся Алексу “здесь и сейчас”.
События предстают в их истинном свете, проявляя связи и открывая смыслы, как заключительный фрагмент собираемого пазла, “деконструкция – реконструкция” жизни ради постижения смысла.
Это послание свыше запускает работу по осмыслению жизненного опыта как осознанию зла в себе. Без этой работы не осилить следующую ступень.
Эпизод очень важен, поскольку, возвращая Веру, он возвращает нас к теме Веры и Любви, и в этом концептуальном плане связан с эпизодом собирания детьми картины “Благовещение” и чтением Первого послания апостола Павла к коринфянам, глава 13:1–8 – одного из глубочайших посланий о сути любви, которая не может быть для себя, когда другого любят как свою вещь, но которая “все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит” и которая “никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится”.
Финал фильма – это финал “перехода”, финал “срывания завес”, рождения в новое качество.
Мы возвращаемся в начало.
Узнаваемый пейзаж с раскидистым древом на склоне холма. Змейка дороги, убегающая за горизонт. Вечный пейзаж с вечным древом. Алекс садится в машину. Она движется по змеящейся дороге туда, к горизонту, вверх. Неожиданно камера панорамирует вправо, открывая пространство, где нездешние жницы собирают жатву.
Сюжет фильма, как мы продемонстрировали, – это сюжет божественного руководства процессом пробуждения человеческой души, которая путем страданий и осмысления внутреннего зла совершает переход на следующую ступень своего развития.
Проблема текстов, работающих с “духовной” тематикой, – это проблема поиска языка, который позволит через образы и предметы нашего мира проявить те силы и воздействия, которые трансцендентны этому миру, но определяют его и движут им.
Как представить непредставимое? Каким образом дать возможность ощутить присутствие невидимого высшего начала?
В “Изгнании” Звягинцев действует как зрелый художник, имеющий замысел. Отсюда – цельность его картины, особая “правильная” геометрия, когда все элементы языка, кажущиеся поначалу случайными и бессистемными, в конечном итоге занимают свои места в заранее предопределенных автором позициях.
Этот, казалось бы, схематизм в данном случае не является свидетельством неполноты или несовершенства, но скорее, законом структуры, частью концепции, сутью замысла.
Важнейшая особенность кинотекстов, работающих с духовной проблематикой, может быть определена через троп “pars pro toto”, или синекдоху.
В переводе с греческого “троп” означает поэтический оборот, употребление языковых фигур в переносном, образном смысле. Троп оперирует смыслом, не принадлежащим напрямую обозначенному явлению или предмету. Это как бы посторонний смысл извне. Его образность – отсылка к чему-то другому.
Смысл, рождаемый поэтикой тропа, апеллирует не к рациональному мышлению, а к чувственному восприятию, уводит сознание в иную область, где главным аргументом становится не логика, а чувство. Тем самым троп придает альтернативный смысл тому, что мы воспринимаем. С этим связана особая поэтическая суггестия, чувственно переживаемый экранный гипноз.
Общепринятое толкование тропа “pars pro toto” – “часть вместо целого”. В традиционном смысле любой крупный план в кино – это синекдоха. В этом тропе две фигуры: а) замещающая часть – pars и б) некое целое – toto.
В случае трансцендентального кино мы имеем особый вариант pars pro toto, когда все, что мы видим и слышим в кадре, вся та реальность, которая возникает на экране, является видимой частью некой непроявленной структуры, с которой она напрямую связана и которой она обусловлена.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: