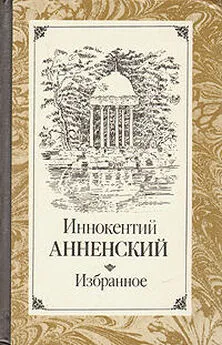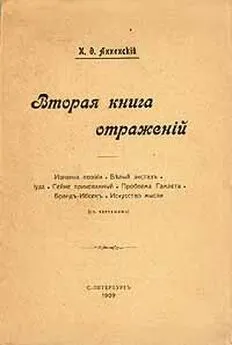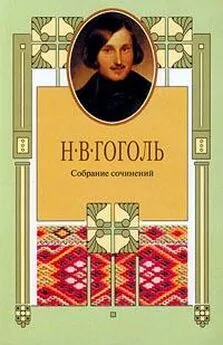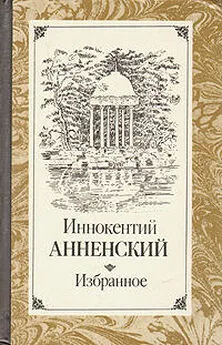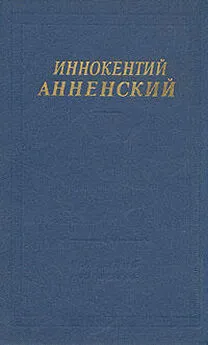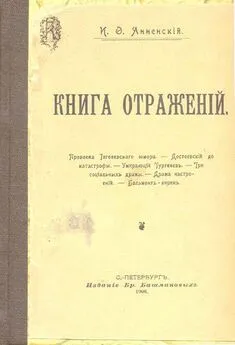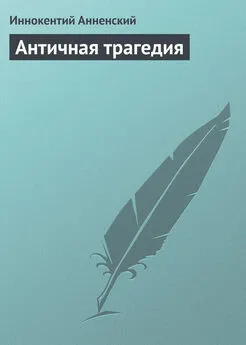Иннокентий Анненский - О формах фантастического у Гоголя
- Название:О формах фантастического у Гоголя
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Иннокентий Анненский - О формах фантастического у Гоголя краткое содержание
В однотомник И. Анненского, замечательного поэта, критика и переводчика, вошли лучшие его стихи, критические эссе и статьи, посвященные творчеству Пушкина, Лермонтова, Гоголя и других известных писателей, а также три статьи о Шекспире, Ибсене и Гейне.
О формах фантастического у Гоголя - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Но вместе с тем исконная склонность человека к миру таинственному, сверхъестественному остается в прежней силе. Она, пожалуй, еще растет.
Чем сильнее ум, тем становится он смелее и тем большей хочет свободы, а такая свобода может проявиться именно в работе метафизической, в области неразгаданных и таинственных явлений и отношений.
Рассмотрим теперь отношение искусства к фантастическому. Это отношение слагается по двум типам.
Оно может быть, во-первых, наивным . Фантастическое в народной поэзии, если восстановлять мысленно именно ее исконную форму , наивно. Фантастический мир не находится в распоряжении певца, а владеет его воображением. Как верование облекается в миф, миф в слово, так слово, вероятно, путем совершенно естественного стихийного развития, переходит в поэзию. Тут не может быть места удивлению, страху, тем менее анализу или отделению реального от фантастического. Причудливая смесь того, что бывает, с тем, чего не может быть, не придумывается, — она веками образовалась в сознании и органично правильна. Народ говорит о том, что должно быть , и верит, что так есть. Конь Ильи делает скачки по нескольку верст; когда нужно, он испровещится человеческим голосом, а рядом с этим хозяин бьет его, как простую лошадь, привязывает, седлает. Реальное переплелось с фантастическим, и в этой первичной основе, которая когда-то послужила началом этого изображения, связь была еще проще и цельнее, хотя в ней не было ничего художественного; она была наивною. «Калевала» изображает дивного медведя. В колыбели, на золотой цепи, привешенной на сук сосны, баюкает Миликки, хозяйка леса, плосконогого, тупоносого медведя. В южноафриканской сказке шакал ворует и обманывает, как у нас лиса.
Везде соединение местного, бытового, реального с фантастическим. Собственно говоря, тут все фантастично. Но, с другой стороны, как ни разнообразны те узоры, которые фантазия вышивает по бытовой канве, они все если не разгаданы, то будут разгаданы и узаконены в связи с народными верованиями и своеобразными попытками объяснить окружающее. Народный певец ничего не вымышлял. Все расцвеченное, придуманное, нагроможденное принадлежит позднейшему времени, книжному влиянию. Эпос в первоначальном своем виде — это одна из элементарных форм народной мысли.
Но есть другое отношение поэта к фантастическому, которое я не умею иначе назвать, как условным . Оно весьма разнообразно, соответственно многообразию художественной цели. Общее одно: выбор и форма фантастического зависит от поэта.
У Гомера мы находим мифы. У Овидия не мифы, а художественную разработку мифических сюжетов. У Гомера Зевс не только бог и создание фантастическое, это и человек: то громовержец, то царь, родовладыка, отец, хозяин. В нем нет настоящей художественной цельности типа. Но это сумма представлений о Зевсе, в известный момент существовавшая у греков, слагавшаяся в нечто цельное мифическим верованием. Совсем не то художественно-цельные Овидиевы Фаэтоны и Нарциссы, Ниобы и Медеи. [7] …Овидиевы Фаэтоны и Нарциссы, Ниобы и Медеи. — Имеется в виду поэма Овидия «Метаморфозы»; Фаэтон, Нарцисс, Ниоба, Медея — персонажи из поэмы.
В миф Овидий не верил и пользовался им лишь как формой своих эстетических и этических воззрений. Мифы Гомера ничему не поучают, а у Овидия они и трогают, и поучают, изящные и полные смысла.
У Гомера рассказывается о поединке Гектора с Ахиллесом: вы видите фантастически сильных людей, фантастическую помощь богов, но вместе с тем вы чувствуете, что перед вами живые люди — устающие, мстительные, проклинающие. У Оссиана [8] Оссиан — легендарный воин и бард кельтов, живший, по преданию, в Ирландии в III в. н. э. Сказания Оссиана в течение веков существовали в Шотландии и особенно в Ирландии в устной традиции; некоторые из них записаны не позднее XII в. Честь «открытия» поэзии Оссиана приписал себе шотландский учитель и собиратель гэльского фольклора Джеймс Макферсон (1736–1796), издавший «Сочинения Оссиана, сына Фингала» (1765).
герои тоже борются, но это уже не греческие герои и вообще не живые люди, это какие-то неуловимые тени, уходящие головой под облака. Естественная связь между фантастическим и реальным нарушена. Фантазия освободилась. Художественная цель заменила стихийное творчество мифа. Вот основания условного отношения человека к фантастическому.
Итак, мы определили, в общем, отношение реального к фантастическому в нашем сознании и в творчестве и показали два главных типа фантастичного в поэзии. Обратимся теперь к художественным формам фантастического в сфере условного к нему отношения — именно у Гоголя.
В каждом явлении, подлежащем нашему разбору, отметим три элемента: 1) художественную цель фантастического; 2) тон, в котором взято это фантастическое; 3) связь между фантастическим и реальным.
Вот фантастический рассказ Гоголя — «Нос». Прежде всего замечаем, что фантастическое не должно и не может здесь давать иллюзии. Мы легко увлечемся представлением ужасных галлюцинаций Хомы Брута, но ни на минуту не будем себя представлять в положении майора Ковалева, у которого на месте носа было совершенно гладкое место. Было бы, однако, большой ошибкой думать, что здесь фантастическое употреблено в смысле аллегории или намека в басне или каком-нибудь современном памфлете, в литературной карикатуре. Ни поучению, ни обличению оно здесь не служит, и цели автора были чисто художественные, как мы увидим при дальнейшем разборе. Тон и общий характер фантастического в рассказе «Нос» — комические. Фантастические подробности должны усиливать смешное.
Есть мнение, очень распространенное, что «Нос» шутка, своеобразная игра авторской фантазии и авторского остроумия. Оно неверно, потому что в рассказе можно усмотреть весьма определенную художественную цель — заставить людей почувствовать окружающую их пошлость.
Всякий поэт, в большей или меньшей мере, есть учитель и проповедник. Если писателю все равно и он не хочет, чтобы люди чувствовали то же, что он, желали того же, что он, и там же, где он, видели доброе и злое, он не поэт, хотя, может быть, очень искусный сочинитель.
Поэтому мысль поэта и образы его поэзии неразрывны с его чувством, желанием, его идеалом. Гоголь, рисуя майора Ковалева, не мог поступать со своим героем, как с жуком, которого энтомолог опишет, нарисует: вот рассматривайте, изучайте, классифицируйте его. Он выражал в его лице свое одушевленное отношение к пошлости, как к известному общественному явлению, с которым каждый человек должен считаться.
Пошлость — это мелочность. У пошлости одна мысль о себе, потому что она глупа и узка и ничего, кроме себя, не видит и не понимает. Пошлость себялюбива и самолюбива во всех формах; у нее бывает и гонор, и фанаберия, и чванство, но нет ни гордости, ни смелости и вообще ничего благородного. У пошлости нет доброты, нет идеальных стремлений, нет искусства, нет бога. Пошлость бесформенна, бесцветна, неуловима. Это мутный жизненный осадок во всякой среде, почти во всяком человеке. Поэт чувствует всю ужасную тягость от безвыходной пошлости в окружающем и в самом себе. И вот он объективирует эту пошлость, придает плоть и кровь своей мысли и сердечной боли. Может ли это быть шуткой? Но зачем же тут фантастическое? Позвольте мне ответить сравнением. Представьте себе, что вы пришли в аквариум и смотрите на морских обитателей: перед вами медузы, морские ежи, черепахи, осьминоги. Все это отвратительное собрание замерло на песчаном дне в мутной воде, присосалось к куску камня. Но вот сторож просунул туда палку и тем произвел нечто необычайное, сверхъестественное для всей этой дряни: черепахи заползали, осьминоги стали извиваться, фосфорические рыбы беспокойно зашныряли.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: