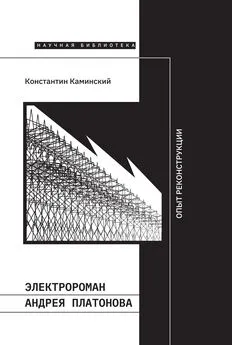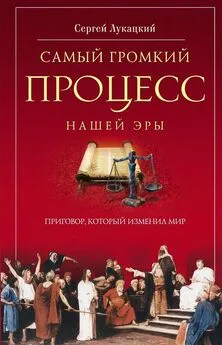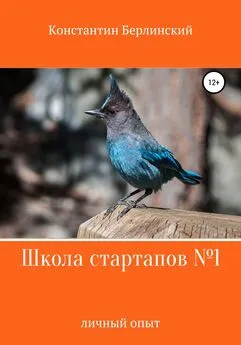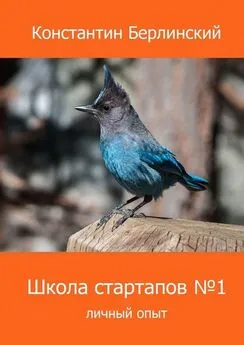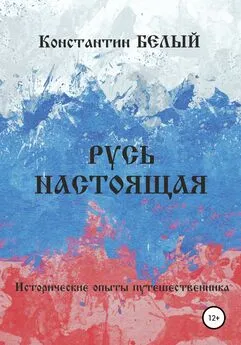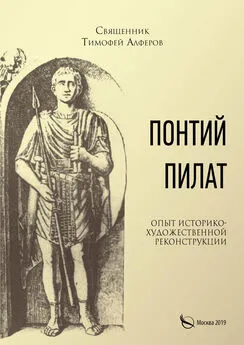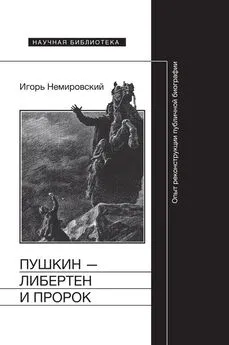Константин Каминский - Электророман Андрея Платонова. Опыт реконструкции
- Название:Электророман Андрея Платонова. Опыт реконструкции
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2020
- Город:Москва
- ISBN:9785444813683
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Константин Каминский - Электророман Андрея Платонова. Опыт реконструкции краткое содержание
Электророман Андрея Платонова. Опыт реконструкции - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
– А куда ж, Апалитыч, земля тогда денется? – спрашивали ребятишки.
– Землю я под конец съем. Оттого я не умираю, все жду.
– А ты куда денешься?
– Я дедом прихожусь Христу, сыну Бога живого, и мне первое место в раю, я буду хозяином там надо всеми вами 121 121 Платонов А. Апалитыч // Платонов А. Сочинения. Т. 1. Кн. 1. C. 148.
.
«Апалитыч» – рассказ о рассказывании. Сам Апалитыч – рассказчик, выдумщик историй, чей мифопоэтический и автопоэтический речевой образ в раннем творчестве Платонова репрезентирует культурную память и как продуктивный прием языкового оформления самореференциальной повествовательной инстанции несомненно является стилистической предтечей более поздних его произведений 122 122 Мифопоэтическая потенция представляет собой conditio sine qua non для развертывания культуры воспоминаний и исторического сознания, что подчеркивает Ян Ассман: «Для культурной памяти релевантны не фактические, а лишь припоминаемые истории. Можно было бы также сказать, что в культурной памяти фактические истории трансформируются в припоминаемые и тем самым трансформируемые в миф. Миф – это учреждающая история, то есть та, которую рассказывают, чтобы описать современность начиная с ее истока». – Assmann J. Das kulturelle Gedächtnis. S. 52.
. Интересно, что Апалитычу явно отказано в способности к индивидуальной памяти:
Все смешалось, сгорело в старой башке Апалитыча, и он сам не знал, что есть он и где ему дорога. Он жил как без памяти, и что выдумывал, тому не верил. <���…> Но Апалитыч к утру забывал все и опять принимался наващивать дратву. И опять болела и металась его неумирающая старая душа. Он думал и думал, целовался в думах с младенцем-Христом, видел цветы рая и слышал пенье, от которого плакал 123 123 Платонов А. Апалитыч. C. 148–149.
.
Апалитыч не обладает никакими биографическими воспоминаниями и на первый взгляд кажется отрезанным от ресурсов коммуникативной памяти. Он конструирует свою идентичность из искаженных обрывков библейских и фольклорных нарративов. Он верит, что он дед Иисуса Христа да и сам явился на свет путем непорочного зачатия: «Это я все нарошно делаю: сапоги шью, в избе с бабой живу. А так – я не здешний, не бабьин сын» 124 124 Там же. C. 148.
. Вместе с тем Апалитыч идентифицирует себя со зверем Апокалипсиса и хтоническим чудищем, которое в конце времен поглотит мир 125 125 Владимир Пропп в своей работе «Исторические корни волшебной сказки» вывел мотив умерщвления змея из антропофагного компонента ритуала инициации. Змей, который глотает солнце, изображает нарративную трансформацию проглоченного тотемным животным неофита. Пропп В. Исторические корни волшебной сказки. М.: Лабиринт, 2002. C. 191–241. Гибридный зооморфный образ змея постоянно указывает в контексте сказки на происхождение героя, но также и на ритуальное (перформативное) происхождение сказки. – Пропп В. Исторические корни. C. 237.
.
Но прежде всего в центре имплицитного рассказа Апалитыча стоит борьба против машин. Он стоит на железной дороге на пути поезда и удерживает его своим могучим голосом и своим телом, от столкновения машины с его голосом происходит светопреставление. Этот всемогущий, суверенный голос героя, утверждающий себя в апокалиптической битве с машиной, одновременно творящий миры и уничтожающий их, указывает на присущий русской литературной традиции образ поэта, который со времен Пушкина трактует поэзию не только как словотворчество, но и как демиургическую силу творения. Вместе с тем поэтическое творческое могущество (в духе горьковской концепции народной культуры, представленной в эссе «Разрушение личности») приписывается не гению-художнику, а полусумасшедшему, ветхому деревенскому сапожнику, который как раз из‐за нехватки способности к поэтической и интеллектуальной рефлексии действует как аутентичный мифотворец, не затронутый буржуазной культурой и ее эстетической традицией 126 126 Апалитыч и родственные ему повествующие персонажи в платоновской прозе вписаны в русскую духовную традицию юродивых, которая была решающей и для выработки русской юмористической традиции. См. об этом: Панченко А. Смех как зрелище // Лихачев Д., Панченко A. Смех в Древней Руси. М.: Наука, 1984. C. 72–153. Актуализация этой традиции у Платонова была неоднократно акцентирована в работах Ханса Гюнтера. См.: Гюнтер Х. Юродство и «ум» как противоположные точки зрения у Андрея Платонова // Slavia Helvetica. 1998. Bd. 58. S. 117–132; Гюнтер Х. Мир глазами «нищих духом» // Wiener Slawistischer Almanach. 2009. Bd. 63. S. 23–38.
.
Обувь, которую Апалитыч мастерит из «старья», есть в принципе декоративная бутафория и не предназначена для применения. Его производство лишено товарной стоимости, в чем отражается своеобразная поэтика (и этика) его профессии.
Обувь Апалитыч лепил из старья, которое он ходил набирать в городе. Опорки выходили из-под его рук жениховскими сапогами. Он смажет их, наярит до огня, залатает кое-где на живую нитку, и готово. После приходил кто-нибудь с села и говорил:
– Апалитыч, что ты старый идол сделал. Рази это сапоги? Они обои на одну ногу, и пальцы уж вылезают. Ведь это чистое наказание господне 127 127 Платонов А. Апалитыч. C. 147.
.
Описание производства башмаков Апалитыча наряду с отчетливо анекдотическим характером является также имманентным описанием приема его поэтического творчества 128 128 Сапожник Апалитыч – явная отсылка к портному Петровичу в гоголевской «Шинели» (1842) и гоголевской анекдотичной повествующей позиции, усиленной благодаря сказу. См.: Эйхенбаум Б. Как сделана «Шинель» Гоголя // Эйхенбаум Б. Сквозь литературу. Л.: Academia, 1924. С. 171–196.
. Как он мастерит башмаки из поношенных остатков, так он сшивает в своих сказках разнородные кусочки космогонических мифов. Тем самым Апалитыч становится настоящим рапсодом ( rhapsōidein: «сшивать песню»), который, подобно Гомеру, добавляет одну к другой стандартизированные формулы, заготовленные детали, в процессе чего творец поэтических произведений, по выводу Уолтера Онга, разоблачает себя как конвейерного рабочего 129 129 Ong W. Oralität und Literalität. S. 29.
. В этом смысле в основе мощи голоса «старого идола» Апалитыча лежит не столько традиция романтического культа поэта и гения нового времени, сколько архаический исток этого культа – вера устных сообществ в то, что звучащее слово наделено силой, способной вызывать резонанс. Типографические же субъекты речи лишены этой изначальной событийности и движущей силы 130 130 Ibid. S. 38.
.
Эта недостаточная чувствительность машинописно и типографски опосредованного восприятия (по сравнению с непосредственной формой устного словотворчества) лежит и в основе теории сказа Бориса Эйхенбаума: «Мы привыкли к школьному делению словесности на устную и письменную. Но, с одной стороны, былина или сказка „вообще“, вне сказителя, есть нечто абстрактное. С другой (и вот это-то особенно интересно) – элементы сказительства и живой устной импровизации скрываются в письменности. Писатель часто мыслит себя сказителем и разными приемами старается придать письменной своей речи иллюзию сказа» 131 131 Эйхенбаум Б. Иллюзия сказа // Эйхенбаум Б. Сквозь литературу. С. 153.
.
Интервал:
Закладка: