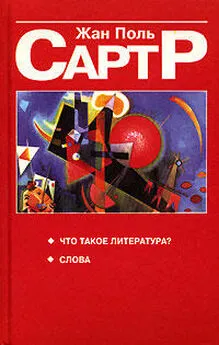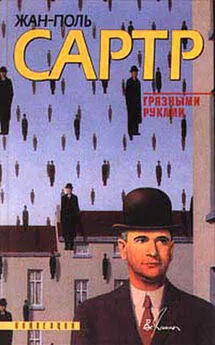Жан-Поль Сартр - Что такое литература?
- Название:Что такое литература?
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Попурри
- Год:1999
- ISBN:985-438-317-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Жан-Поль Сартр - Что такое литература? краткое содержание
«Критики — это в большинстве случаев неудачники, которые однажды, подойдя к порогу отчаяния, нашли себе скромное тихое местечко кладбищенских сторожей. Один Бог ведает, так ли уж покойно на кладбищах, но в книгохранилищах ничуть не веселее. Кругом сплошь мертвецы: в жизни они только и делали, что писали, грехи всякого живущего с них давно смыты, да и жизни их известны по книгам, написанным о них другими мертвецами... Смущающие возмутители тишины исчезли, от них сохранились лишь гробики, расставленные по полкам вдоль стен, словно урны в колумбарии. Сам критик живет скверно, жена не воздает ему должного, сыновья неблагодарны, на исходе месяца сводить концы с концами трудно. Но у него всегда есть возможность удалиться в библиотеку, взять с полки и открыть книгу, источающую легкую затхлость погреба».
[…]
Очевидный парадокс самочувствия Сартра-критика, неприязненно развенчивавшего вроде бы то самое дело, к которому он постоянно возвращался и где всегда ощущал себя в собственной естественной стихии, прояснить несложно. Достаточно иметь в виду, что почти все выступления Сартра на этом поприще были откровенным вызовом преобладающим веяниям, самому укладу французской критики нашего столетия и ее почтенным блюстителям. Безупречно владея самыми изощренными тонкостями из накопленной ими культуры проникновения в словесную ткань, он вместе с тем смолоду еще очень многое умел сверх того. И вдобавок дерзко посягал на устои этой культуры, настаивал на ее обновлении сверху донизу.
Самарий Великовский. «Сартр — литературный критик»
Что такое литература? - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Возможно, палача потом и повесят. Жертва, если ей удастся вырваться, наверное, оправдает себя. А вот кто уничтожит эту мессу, во время которой все свободы объединились в разрушении человеческого? Нам было известно, что такую мессу служат по всему Парижу, когда мы едим, спим, занимаемся любовью. До нас доходили вопли целых улиц, и мы поняли, что Зло – плод свободной и суверенной воли, такой же абсолют, как и Добро. Можно надеяться, что придет счастливый день или счастливое время, когда, осознав прошлое, люди увидят в этих страданиях и позоре путь, который вел к Миру.
Но мы жили не на обочине уже свершившейся истории, как я уже говорил. Мы оказались в такой ситуации, что каждая прожитая минута казалась нам невосстановимой. Неосознанно мы сделали вывод, который прекраснодушным людям покажется шокирующим. Зло не искупить ничем.
Надо помнить, что большинство участников Сопротивления, несмотря на побои, пытки, вопреки тому, что их ослепляли, калечили, жгли, так и не заговорили. Этим они разорвали круг Зла и доказали человечность для себя, для нас, даже для своих мучителей. Все это было сделано без свидетелей, без помощи, без надежды, иногда даже без веры. Для них вопросом была не вера в человека, а желание этой веры. Все будто объединилось, что-бы отнять у них мужество. Все вокруг: и эти склоненные над ними лица, эта боль в них самих – все заставляло их поверить в то, что они насекомые. Человек – только неосуществимая мечта тараканов и мокриц. Однажды они очнутся и поймут, что они только могильные черви, как все. Этого человека можно было создать только с помощью их истерзанной плоти, преследуемых мыслей, которые их уже предали, начав с ничего и ни для чего, совершенно бесцельно. Только внутри человеческого можно увидеть цели, ценности, выбор, а они еще были в стадии сотворения мира и перед ними еще только стоял вопрос о свободном выборе. Станет ли мир чем-то большим, чем животное царство? Они молчали, и из этого безмолвия рождался человек.
Мы знали, что каждый миг каждого дня во всех четырех концах Парижа человек двадцать раз погибал и возрождался вновь. Недели не проходило, чтобы мы, знавшие об этих муках, не спрашивали бы себя: "А как поступил бы я, если бы меня пытали?" Только этот вопрос выводил нас за границу нашего "я" и общечеловеческого. Он заставлял нас выбирать между ничейной землей, где человечество отрицает себя, и голой пустыней ней, из которой оно возникает и создает себя.
Наши непосредственные предшественники, от которых мы получили культуру, мудрость, нравы и поговорки. Они создали дома, в которых мы живем, и расставили вдоль наших дорог статуи своих великих людей. У них были довольно скромные добродетели и жили они в умеренном климате. Они никогда не грешили столь сильно, чтобы упасть слишком низко. Они всегда могли увидеть под собой еще больших грешников. Заслуги не возносили их столь высоко, чтобы не увидеть над собой еще более заслуженные души. Далеко на горизонте их взгляд различал людей и даже высказывания, которыми они пользовались и которые мы получили от них. "Дурак всегда найдет еще большего дурака, который им восхитится", "Всегда нужен кто-то более ничтожный, чем ты сам". Нам досталась их манера утешаться в своих горестях тем, что, как ни велико их горе, есть и еще хуже. Все говорит о том, что они смотрели на человечество как на естественную и бесконечную среду, из которой нельзя выйти или достигнуть ее границ. Смерть они встречали со спокойной совестью, не пытаясь понять свой человеческий удел. Поэтому их писатели подарили им литературу средних ситуации.
Но мы не могли считать, что быть человеком естественно, когда лучшие из нас в застенках могли выбирать только между нравственным падением и героизмом. То есть выбирали между двумя крайними точками человеческого поведения, за пределами которых уже ничего нет. Если они были трусами и предавали, то люди оказывались выше их. Если они становились героями, то все остальные были ниже их.
Последнее встречалось чаще всего. Они уже видели в человечестве безграничную среду. Оно для них было лишь слабым огоньком, который они вынуждены были сами поддерживать в себе. Все человечество сжималось в комок в том молчании, которое они противопоставляли своим палачам. Их окружала только ледяная полярная ночь бесчеловечности и неведения, которую они не видели, а лишь угадывали по ее жуткому леденящему холоду. Наши отцы всегда имели свидетелей и примеры. Для этих измученных людей не было ни тех ни других. Сент-Экзюпери сказал после выполнения им опасного задания: "Я сам свой собственный свидетель". Ужас, потерянность и кровавый пот начинаются тогда, когда у человека уже не может быть другого свидетеля, кроме него самого. Тогда он испивает чашу до дна, то есть до конца узнает удел человеческий. Конечно, далеко не все мы прошли через этот кошмар, но он висел над нами как угроза и обещание.
Пять долгих лет мы жили словно скованные. Мы никогда не относились легко к своему писательскому ремеслу, поэтому это оцепенение все еще сказывается в наших работах. Мы положили начало литературе крайних ситуаций. Я не считаю, что это сделало нас выше наших старших собратьев. Скорее наоборот.
Блок-Мишель, имеющий право говорить, утверждал в "Тан модерн", что великие обстоятельства требуют меньше отваги, чем ничтожные. Не мне судить, прав он или нет. Кем лучше быть – янсенистом или иезуитом? Но я считаю, что доблесть нужна при любых обстоятельствах, и что человек не может одновременно быть и тем, и другим. Получается, что мы – янсенисты. Это эпоха сделала нас такими. Она заставила нас дойти до пределов. Я считаю, что мы все – писатели метафизики. Возможно, многие среди нас откажутся от этого или согласятся с оговорками, но это по чистому недоразумению. Ведь метафизика – отнюдь не чисто теоретический спор об абстрактных понятиях, далекая от опыта. Это живое усилие полностью осознать изнутри удел человеческий. Обстоятельства заставили нас открыть для себя давление истории, как Торричелли открыл атмосферное давление. Поставленные жестоким временем в ту заброшенность, откуда видны крайние точки, до абсурда, до полного незнания нашего человеческого удела.
Возможно, мы взяли на себя непосильную задачу. Это не первый раз эпоха, за недостатком таланта, не создала ни своего искусства, ни философии. Нам предстояло создать литературу, которая соединяет и примиряет метафизический абсолют и относительность исторического события. Я ее назову, за неимением лучшего определения, литературой великих обстоятельств.
Мы не намерены бежать в вечное, преклоняться перед тем, что неподражаемый г-н Заславский называет в "Правде" "историческим процессом". Наше время поставило перед нами вопросы другого порядка. И они будут нашими вопросами. Как можно стать человеком внутри истории, через и для нее? Можно ли осуществить синтез между нашим единственным и уникальным сознанием и нашей относительностью. Короче говоря, между догматическим гуманизмом и верой в историческую перспективу? Чем мораль связана с политикой? Как осознать объективные последствия наших действий, независимо от наших настоящих намерений? Можно поставить эти проблемы абстрактно. Но нам хотелось их пережить. А это значит – подкрепить свои мысли скрытым конкретным опытом, каким являются романы. В начале нашего пути у нас была техника, рассмотренная мною раньше, чьи цели сильно отличались от наших намерений. Она была предназначена для описания личной жизни в стабильном обществе. С ее помощью можно было запечатлевать, описывать и разъяснять колебания, медленную дезорганизацию частной системы в мире, находящемся в состоянии покоя. Но в 1940 году мы оказались в эпицентре циклона. Чтобы сохранить ориентацию, нам нужно было решить более сложную проблему. Ведь уравнение второй степени более сложно, чем уравнение первой степени. Надо было различать отношения частных систем с общей системой, их включающей. И при этом: нужно было учитывать, что обе они находятся в движении и что их движение влияет друг на друга. В стабильном мире автор французского предвоенного романа находится в пункте "гамма", обозначающем абсолютный покой. У автора были точные ориентиры, позволяющие определить движение его персонажей. А мы оказались в стремительно развивающейся системе. Нам были известны только относительные траектории. Наши предшественники считали, что находятся вне истории, и одним взмахом крыла оказывались на вершине, откуда видели все в истинном свете. Нас же обстоятельства вновь окунули в наше время. Мы не могли видеть мир во всем его объеме, во всей его цельности, находясь внутри него? Поскольку мы оказались в ситуации, нам и осталось писать романы только об этой ситуации. Пришлось обойтись без внутренних рассказчиков, и всезнающих свидетелей. Короче, если мы хотели дать отчет о нашей эпохе, то нам пришлось отказаться от техники романа, основанной на ньютоновской механике, ко всеобщей относительности. В наших книгах поселились полуясные и полутемные создания, из которых одно может показаться нам привлекательнее другого, но ни одно не имеет преимуществ во взгляде на событие или на самого себя. Пришлось представить существа, чья реальность создавалась из беспорядочного и противоречивого переплетения оценок, данных каждым обо всех, включая и себя, и всеми о каждом. Эти создания никак не могут понять изнутри, происходят ли изменения их судеб из-за их собственных усилий и ошибок или это просто следствие движения вселенной. Пришлось везде оставить сомнения, ожидания, незаконченность и вынудить читателя самого строить предположения, внушив ему чувство, что его взгляд на события и персонажей только одно мнение из многих других. Но ни в коем случае мы не должны были указывать ему дорогу и позволить ему догадаться о наших чувствах.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: