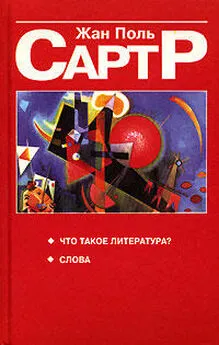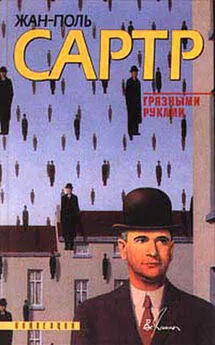Жан-Поль Сартр - Что такое литература?
- Название:Что такое литература?
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Попурри
- Год:1999
- ISBN:985-438-317-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Жан-Поль Сартр - Что такое литература? краткое содержание
«Критики — это в большинстве случаев неудачники, которые однажды, подойдя к порогу отчаяния, нашли себе скромное тихое местечко кладбищенских сторожей. Один Бог ведает, так ли уж покойно на кладбищах, но в книгохранилищах ничуть не веселее. Кругом сплошь мертвецы: в жизни они только и делали, что писали, грехи всякого живущего с них давно смыты, да и жизни их известны по книгам, написанным о них другими мертвецами... Смущающие возмутители тишины исчезли, от них сохранились лишь гробики, расставленные по полкам вдоль стен, словно урны в колумбарии. Сам критик живет скверно, жена не воздает ему должного, сыновья неблагодарны, на исходе месяца сводить концы с концами трудно. Но у него всегда есть возможность удалиться в библиотеку, взять с полки и открыть книгу, источающую легкую затхлость погреба».
[…]
Очевидный парадокс самочувствия Сартра-критика, неприязненно развенчивавшего вроде бы то самое дело, к которому он постоянно возвращался и где всегда ощущал себя в собственной естественной стихии, прояснить несложно. Достаточно иметь в виду, что почти все выступления Сартра на этом поприще были откровенным вызовом преобладающим веяниям, самому укладу французской критики нашего столетия и ее почтенным блюстителям. Безупречно владея самыми изощренными тонкостями из накопленной ими культуры проникновения в словесную ткань, он вместе с тем смолоду еще очень многое умел сверх того. И вдобавок дерзко посягал на устои этой культуры, настаивал на ее обновлении сверху донизу.
Самарий Великовский. «Сартр — литературный критик»
Что такое литература? - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Если творчеству суждено найти завершение только в процессе чтения, если художник вынужден передоверить другому окончание начатого, если стать главным в своем произведении он может только через читательское сознание, значит каждая книга есть призыв. Писать – означает взывать к читателю, который должен перевести в область объективного существования разоблачение, осуществленное посредством языка. Если задать вопрос, к чему именно призывает писатель, ответ окажется простым. Мы не видим в книге достаточных оснований для явления эстетического объекта, присутствует только желание его создать. Этих оснований недостает и в сознании автора. Субъективность, из которой ему не выйти, не дает предпосылок для перехода к объективности. Именно поэтому рождение произведения искусства есть принципиально новое событие и его нельзя объяснить, исходя из предшествующего материала.
Чтение – это направляемое творчество, абсолютное начало. Осуществляется оно по доброй воле читателя как проявление его свободы в чистом виде. Таким образом, писатель обращается к свободе читателя, которая должна стать соавтором его произведения. Мне могут возразить, что любое орудие труда адресуется к этой свободе, и в этом отношении произведение искусства нет нужды выделять. Орудие труда есть опредмеченный эскиз производимого им действия. Но оно остается на уровне гипотетического императива: я могу употребить молоток на то, чтобы сбить ящик или досадить соседу. 'Сам молоток не обращается к моей свободе, не ставит меня перед ней. Он просто хочет ей служить, заменяя мое свободное творчество стандартными приемами обращения с инструментом.
Книга не служит моей свободе – она ее предполагает. К свободе человека нельзя взывать, принуждая, обольщая или умоляя. Единственный способ обрести свободу – вначале признать ее, затем довериться и в конце концов потребовать от нее действия во имя ее самой, то есть во имя твоего к ней доверия. Книга отличается от орудия труда – это не средство достижения некоей цели, она сама предлагается в качестве цели для свободной воли читателя, Выработанное Кантом понятие "целесообразность без цели" нельзя применить к произведению искусства. Оно предполагает, что эстетический объект представляет собой одну только видимость цели. Оно заботится лишь о свободной и упорядоченной фантазии. Оно упускает, что зрительское и читательское воображение имеет не только упорядочивающую, но и созидательную функцию; оно не занимается играми, оно призвано достроить объект, пусть даже за пределами ограничительных линий, проведенных рукой художника.
Как и другие способности человеческого духа, воображение не в состоянии наслаждаться само собой, оно всегда направлено во внешний мир, всегда участвует в творческом процессе. Целесообразность без цели могла бы существовать, если бы в объекте присутствовала очевидная организованность, указывающая на определенное, пусть даже неизвестное нам намерение. Определив эстетически прекрасное таким образом, можно – именно в этом и состоит цель Канта – привести к единому знаменателю красоту в искусстве и природе. Ведь цветок, к примеру, обладает такой симметрией, такой гармонией красок, такими совершенными контурами, что немедленно возникнет соблазн отыскать некую цель, к которой направлены все его свойства, увидеть в их синтезе лишь средство достижения этой цели. Но тут-то и поджидает нас ошибка: природная красота несопоставима с красотой в искусстве. Произведение искусства не имеет цели, в этом мы разделяем точку зрения Канта. Не имеет именно по той причине, что оно само и представляет собой цель. Кантовская формула оставляет без внимания призыв, исходящий от каждой картины, статуи, книги. Кант полагает, что произведение существует прежде всего как факт, а затем уже его воспринимают. В действительности, оно существует только тогда, когда его видят, – сначала оно только чистый призыв, лишь требование существовать. Это не инструмент, способный существовать только с неопределенной целью.
Произведение предстает как задача, которую необходимо решить, и этим сразу возвышается до уровня ультимативного императива. В вашей власти оставить эту книгу лежать на столе. Но если вы ее открываете, то берете на себя ответственность за это. Ибо свобода ощущается не в свободном субъективном действии, а в творческом акте, вызванном императивом. Это трансцендентный и в то же время добровольно воспринятый императив. Именно такая абсолютная цель, взятая на себя самой свободой, и есть то, что мы называем ценностью. Произведение искусства можно считать ценностью, потому что оно есть императив.
Когда я в своем произведении призываю читателя закончить начатое мною дело, то, без сомнения, я рассматриваю это как чистую свободу, творческую силу, активную позицию; никогда я не могу обращаться к его пассивности, то есть стараться повлиять на него, вызвать у него сразу такие эмоции, как страх, желание или гнев. Конечно, есть авторы, стремящиеся именно к этому, озабоченные стремлением вызвать у читателя такие эмоции. Это объясняется тем, что подобные эмоции предсказуемы, управляемы, и в распоряжении писателя есть испытанные средства для того, чтобы их вызвать. Именно это часто ставят писателям в вину. Так было в античности с Еврипидом, который выводил на сцену детей.
В страсти свобода отделена: утонув в деталях, она забывает о своей главной задаче – создание абсолютной цели. Теперь уже книга не более чем средство вызвать ненависть или желание. Задача писателя не том, чтобы потрясти читателя, тогда он окажется в противоречии с самим собой. Если он намерен требовать, ему достаточно лишь предложить читателю задачу для решения. Вот мы и пришли к чисто демонстративному характеру произведения искусства как к его важнейшему признаку. Некоторая эстетическая дистанция просто необходима для читателя. Это то, что Готье так глупо перепутал с "искусством для искусства", а парнасцы – с отстраненностью художника. Мы говорим только о предусмотрительности. Жене более точно назвал это учтивостью автора по отношению к читателю. Но это не следует думать, что писатель обращается к какой-то абстрактной, концептуальной свободе. Эстетический объект создается заново через чувства. Если он трогателен, то мы видим его лишь сквозь слезы, если смешон, то осознается через смех. Оба эти чувства особого рода – основой их является свобода, они – восприняты. Я все равно до конца не верю в рассказ, который добровольно решил считать правдивым. Это Страсти в христианском понимании слова. Здесь свобода, сама поставившая себя в пассивное положение, чтобы через эту жертву получить определенный трансцендентный результат. Читатель становится доверчивым, он окунается в доверчивость, а она – хоть и сопровождается все время сознанием, что он свободен, – в конце концов обволакивает его, как сон. Порой, автора заставляют выбирать: "Или в вашу историю верят, а это нежелательно, или не верят, тогда это смешно".
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: