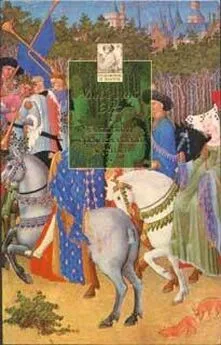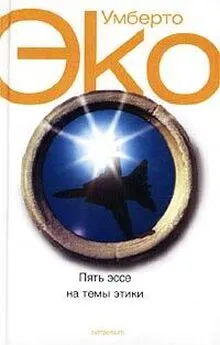Сергей Рейнгольд - «Отравить монаха», или человеческие ценности по Умберто Эко
- Название:«Отравить монаха», или человеческие ценности по Умберто Эко
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:1994
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Рейнгольд - «Отравить монаха», или человеческие ценности по Умберто Эко краткое содержание
«Отравить монаха», или человеческие ценности по Умберто Эко - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Поэтому писатель предпочитает испытанное еще в первом романе оружие -литературное «отравление» или «удушение». Не случайно возлюбленная главного героя на приглашение увидеть редкий ритуальный обряд бросает фразу: «Есть только одна культура: повесить последнего священника на кишках последнего розенкрейцера».
Насколько сказанное нами — дань моде, ходовой товар или нечто важное? Все мы обретаемся в невидимой плоскости «морального и культурного долга» среди неразберихи «переходного» времени, когда болезнью герменевтического поиска секрета и гностического доминирования легко заражаются и искатели бесконечной тайны; и те, кто ни во что не верит и лишь играет; и те, кто не верит и в игру, но пародирует тех или других; и те, кто просто мимикрирует… — в течение столетий Европа видела множество подобных оттенков, о чем и свидетельствует Эко в романе «Маятник Фуко», заявляя, что «веками поиск секрета был клеем, державшим их всех вместе, несмотря на отлучения, междоусобицу и подножки».
Не случайно роман и выстроен вокруг главного образа — маятника Фуко, который с каждым взмахом наглядно показывает степень поворота мира, где все мы, неокаббалисты и постмодернисты, нищие и банкиры, художники и чиновники, святые и грешники, крутимся в своих удачах и частностях.
Этот взгляд Эко, несомненно, перекликается с традицией западноевропейской философской мысли, с ощущением бездны, о которой писал Блез Паскаль. С чувством относительности и хрупкости нашей культуры, слабости которой связаны с проблемой познания. Так, для главного героя романа «Маятник Фуко» проблема разрешения любой загадки — это нетривиальный переход от неведения (глупости) к свету: «Я раньше думал, что источник любой загадки — глупость». Увы, дело осложняется нашим своеобразным подходом к миру, порождающим опасность: «Теперь я пришел к убеждению, что весь мир -это одна загадка, безвредная загадка, которая стала зловещей благодаря нашей сумасшедшей попытке интерпретировать его так, словно он скрывает под собой правду».
Причем эта «сумасшедшая» жажда найти «правду» — открыть «заново секрет творения» — делает культуру лишь обманчиво разносторонней и способной на поиск и эксперимент. Человечество видится Эко скорее зажатым, соблазненным общим гипотетическим порядком. Планом. Оно постоянно восхищено механической, по сути, идеей напора и доминирования («локомотивом»):
«Человечество верило, что движется в разных направлениях, верило, что все возможно, верило в преимущество эксперимента, механики. Мастера Мира обманули нас на века. Спеленутые, совращенные Планом, мы писали поэмы во славу локомотива».
Поэтому история науки, ее приборы и аппараты, вообще мир машин ассоциируется для Эко с орудиями пыток. Речь не о простом осуждении техники или авангардистских претензий на исключительность, но о нашей культуре в целом. Именно поэтому в кульминационной сцене романа «Маятник Фуко» собрались представители различных сект, орденов, лагерей, секретных и несекретных служб, мастера игры, мистификации и мимикрии. Собрались ночью в Музее технических достижений человечества. Все вместе — люди и изобретения — выглядят экспонатами, мастодонтами одной ограниченной культуры. Все вместе крутятся и летят в ночи сообща, что неумолимо фиксирует маятник Фуко.
Как известно, плоскость качания маятника неизменна — что бы ни крутилось кругом. Что же неизменно для Умберто Эко, какие человеческие ценности? Или в век постмодернистского «все сказано» и общего покушения на «последнюю» тайну человеческие ценности не существуют? Это и есть уродство по Эко, в частности проявляющееся в крайностях гностико-герменевтического наследия.
И не потому ли отказ человека участвовать в этой игре, смелость бросить насмешливое «Не пыжьтесь!» (в оригинале использовано более грубое выражение), даже если после таких слов ему устроят казнь — стали в романе поворотным моментом. Именно это происходит с Бельбо — вторым по значимости героем романа. Мастера тайн, игр и пародий повесили его на струне маятника. И тело Бельбо, продолжающее качаться в одной плоскости, символизирует в книге неизменную ценность человека, его жизни и достоинства в общем мелькающем круговороте.
Ценность человека, пристальное внимание к малейшему доминированию и фальши — константы духа Европы и ее литературы XX века. Недаром Эко с радостью согласился в «Интерпретации и чрезмерной интерпретации» с догадками тех читателей, которым Бельбо напомнил Чезаре Павезе. Быть самим собой, просто человеком об этом говорит и наш И. Бродский:
«Человек ведь привык себя спрашивать: кто я? Там ученый, американец, шофер, еврей, иммигрант. А надо бы спрашивать: не говно ли я? Да? Потому что в людях вообще и в людях из России в особенности в первую очередь сталкиваешься с позой… Просто быть самим собой. Частным человеком». [7] МН, 1992, No 41 (11 окт.).
На протяжении всего романа «Маятник Фуко» Умберто Эко говорит об ответственности и осторожном отношении к миру и его священным текстам. «…Мы «заанаграммировали» все книги истории и сделали это без молитвы». «Мы обращаемся к книгам без любви, с насмешкой…» Несколько раз в своей книге Эко варьирует мысль о том, что обычная наша самоуверенность ведет к «манипуляциям именами с целью превратить их в талисман, инструмент насилия над природой», тогда как «каждая буква привязана к какой-то части тела, всякое изменение буквы без расчета ее силы может подействовать на тело, его положение или природу, и тогда вы вдруг переменитесь, окажетесь чудовищем. Физически — в жизни; духовно — для вечности».
Между прочим, этот «мягкий» интерпретационный подход, разрабатываемый Эко, неизбежно предполагает свое решение экзистенциальной проблемы бытия: «Если вся проблема — отсутствие существования, и если то, что сказано, — существует, то чем больше мы говорим, тем больше существуем». Поэтому творчества становится залогом существования: «Придумывать, придумывать безудержно, не обращая внимания на связи, сделать обобщения невозможными… Поверить в то, что не может быть выражено… Правда — анаграмма любой анаграммы». И это не продолжение обычной игры, в которой как последнее откровение подаются очередной логический ход или связь, но допущение их одинаково верными или ложными, что обязательно обнаружится впоследствии. Эко считает, что многое нам неизвестно или воспринимается чисто интуитивно. Что мир большей частью живет на природной интуиции — «мудрости Земли». Эта мудрость, незаметно управляющая всем со времен динозавров, дарит нам мгновения счастья, сквозит в движениях ребенка… и вместе с миром находится под угрозой экспансии рационализма, отравленного подделкой и страстью главенства.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: