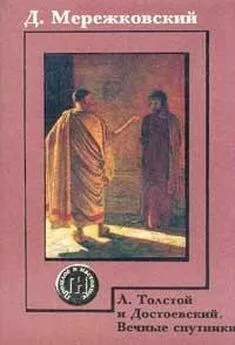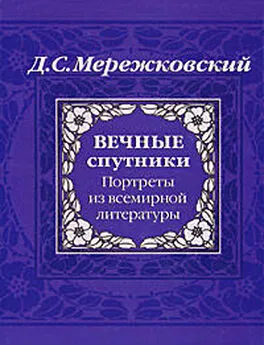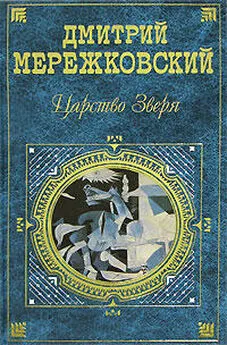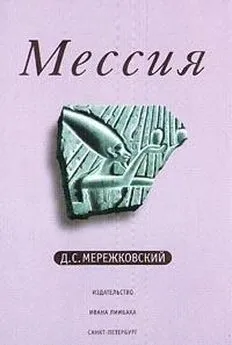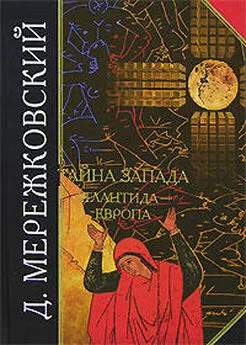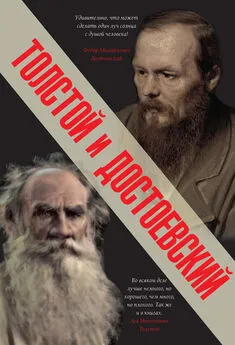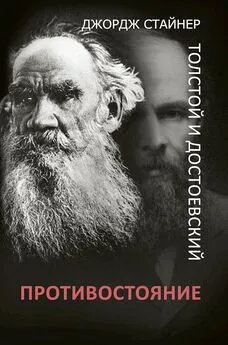Дмитрий Мережковский - Л.Толстой и Достоевский
- Название:Л.Толстой и Достоевский
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Мережковский - Л.Толстой и Достоевский краткое содержание
В свое книге «Толстой и Достоевский» Мережковский показывает, что эти два писателя «противоположные близнецы» друг друга, и одного нельзя понять без другого, к одному нельзя прийти иначе, как через другого. Язычество Л.Толстого – прямой и единственный путь к христианству Достоевского, который был убежден, что «православие для народа – все», что от судеб церкви зависят и судьбы России. Каждый из них выражает свои убеждения в своих произведениях.
Л.Толстой и Достоевский - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Первый из них опустил глаза Шатов и, видимо, потому, что принужден был опустить».
Замечательно, что по поводу той силы, которую в данном случае Ставрогину пришлось победить, умертвить в себе своим сознанием, и которую сам Достоевский, или только рассказчик «Бесов», несколько произвольно называет «злобою» , он сравнивает Ставрогина с Лермонтовым. «В злобе, – говорит он, – разумеется, выходил прогресс против Лермонтова. Злобы в Николае Всеволодовиче было больше; но злоба эта была холодная, спокойная и, если можно так выразиться, разумная (подчеркнуто Достоевским), стало быть, самая отвратительная и страшная, какая может быть». Существует, конечно, глубокая, хотя доныне еще не исследованная связь таких героев уединенной, возмутившейся личности у Достоевского, как Ставрогин, Раскольников, Подросток, даже герой «Записок из подполья», с одной стороны, и лермонтовский, байроновский «хищный тип» – с другой. Что касается последнего: всех этих старых романтических героев личности, Печориных, Германов, Корсаров, Чайльд-Гарольдов, – то у них, действительно, была, так же как у их общих прародителей – Наполеона и Жан-Жака Руссо, огромная слабость, отмеченная Достоевским: все они страдали и нередко погибали от мелких уколов самолюбия, хотя бы такою случайною трагикомическою гибелью, как Лермонтов, убитый на дуэли из-за пустяков; у всех у иных было еще слишком много первобытно-стихийного, юношески, иногда прямо ребячески-необузданного, «неразумного», что так и не давало им вырасти до полной возмужалой меры сил своих, а ведь силы эти, в самом деле, не исчерпывались тем, что Достоевский называет их «злобою»; да и что такое сама эта «злоба», как не обратная, искаженная форма до последней степени ожесточившейся и отчаявшейся любви к себе , опять-таки того же личного, прометеевского, титанического начала, то есть чего-то пока не святого, не религиозного, но могущего в известных условиях сделаться и святым, и религиозным, по слову Наполеона, недаром столь часто мною здесь приводимому: «Я создавал религию». Так же, как сам Наполеон, Ставрогин не создал религии; но он все-таки был ближе к ней, чем Лермонтов и Байрон: именно потому, что его «злоба», его любовь к себе, к своему мистически еще не сознанному, но уже существующему я, – «разумнее», сознательнее. В те неимоверные «десять секунд» после пощечины, когда он овладевает собою и смотрит на Шатова, – бледное лицо его, в самом деле, прекрасно и до известной степени «богоподобно», как лицо героя. Кто так владеет собою, тот сможет, если захочет, повелевать и другими. В таком самообладании есть нечто действительно царственное, «признак власти», которая людям не людьми дается. Многолетнее самоумерщвление, медленный искус отшельников сосредоточил он в эти страшные десять секунд, прошел его весь до конца и вышел победителем. Другой вопрос – для чего нужна эта победа; но, во всяком случае, она реальна. Конечно, даже и такой аскетизм – еще не религия, но это все же неизбежный путь к религии; и мы убеждаемся из этого опыта, что Ставрогин, если бы только мог найти своего Бога, сделался бы великим святым, наверное большим, более совершенным и окончательным, чем князь Мышкин. Та «демоническая» сила русского духа, которая дала миру Петра, но им не исчерпана, сказывается в Ставрогине.
Так именно и понял это Шатов. Более верующий и покорный, чем когда-либо, возвращается он к своему учителю: «Понимаете ли, что вы должны мне простить этот удар по лицу уже по тому одному, что я дал вам случай познать при этом вашу беспредельную силу? – Вы единый человек, который мог бы…» Шатов не договаривает, под холодною брезгливою усмешкою Ставрогина, но это значит: который мог бы спасти Россию от революционных «бесов», от неотразимых выводов антихристовой западноевропейской культуры. «Вы, вы одни могли бы поднять это знамя!» – заключает он свою влюбленную и, вместе, негодующую исповедь. – Разве я не вижу по лицу вашему, что вас борет какая-то новая грозная мысль? Ставрогин, для чего я осужден в вас верить во веки веков? Разве мог бы я так говорить с другим? Разве я не буду целовать следов ваших ног, когда вы уйдете? Я не могу вас вырвать из моего сердца, Николай Ставрогин!»
– Слушайте, – говорит ему не столько нигилист 70-х годов, сколько современный или даже будущий анархист, Петр Верховенский, «верный слуга Ричарда», Мефистофель Ставрогина, влюбленный в него еще более, чем Шатов, но едва ли, несмотря на всю свою кажущуюся влюбленную мечтательность, слишком ошибающийся практический , если не в реальном, то в возможном действии скрытой в Ставрогине и бесплодно гибнущей нравственной силы, – слушайте: папа будет на Западе, а у нас, у нас будете вы!
– Отстаньте от меня, пьяный человек! – восклицает Ставрогин с омерзением.
Далее следует приведенное выше признание в любви – кажущийся безумным, на самом деле, во многом вещий бред любви:
«– Ставрогин, вы – красавец!.. Вы – мой идол!.. Вам ничего не значит пожертвовать жизнью и своею, и чужою. Вы именно таков, какого надо. Мне, мне именно такого надо, как вы. Я никого, кроме вас, не знаю. Вы – предводитель, вы – солнце, а я – ваш червяк.
Он вдруг поцеловал у него руку. Холод прошел по спине Ставрогина, и он в испуге вырвал свою руку.
– Помешанный, – прошептал Ставрогин.
– Может, и брежу, может, и брежу! – подхватил тот скороговоркой, – но я выдумал первый шаг… Мне вы, вы надобны, без вас я нуль. Без вас я муха, идея в склянке, Колумб без Америки… Мы провозгласим разрушение… Мы пустим легенды… Ну-с, и начнется смута! Раскачка такая пойдет, какой мир еще не видал… Затуманится Русь, заплачет земля по старым богам… Ну-с, тут-то мы и пустим…
– Кого?
– Ивана-царевича…
– Кого-о?
– Ивана-царевича; вас, вас!
Ставрогин подумал с минуту.
– Самозванца? – вдруг спросил он, в глубоком изумлении смотря на исступленного. – Э, так вот, наконец, ваш план.
– Мы скажем, что он скрывается , – тихо, каким-то любовным шепотом проговорил Верховенский, в самом деле как будто пьяный.
– Знаете ли вы, что значит: он скрывается? . Но он явится, явится. Мы пустим легенду, получше, чем у скопцов. Он есть, но никто не видал его. О, какую легенду можно пустить! А главное – новая сила идет. А ее-то и надо, по ней-то и плачут. Ну, что в социализме: старые силы разрушил, а новых не внес. А тут сила, да еще какая неслыханная! Нам ведь только на раз рычаг, чтобы землю поднять. Все поднимется! Слушайте, я вас никому не покажу, никому: так надо. Он есть, но никто не видал его… А знаете, что можно даже и показать из ста тысяч одному, например. И пойдет по всей земле: «Видели, видели». И Ивана Филипповича, [33]бога-саваофа, видели, как он в колеснице на небо вознесся, «собственными глазами» видели. А вы не Иван Филиппович; вы – красавец, гордый, как бог… Вы их победите, взглянете и победите. Новую правду несет и «скрывается»… И застонет стоном земля: «Новый правый закон идет», и взволнуется море, и рухнет балаган, и тогда подумаем, как бы поставить строение каменное. В первый раз! Строить мы будем, мы, одни мы!»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: