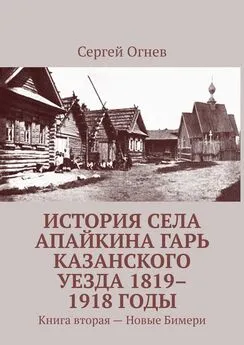Анатолий Бритиков - Отечественная научно-фантастическая литература (1917-1991 годы). Книга вторая. Некоторые проблемы истории и теории жанра
- Название:Отечественная научно-фантастическая литература (1917-1991 годы). Книга вторая. Некоторые проблемы истории и теории жанра
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Творческий центр «Борей-Арт»
- Год:2005
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:5-7187-0628-Х
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Анатолий Бритиков - Отечественная научно-фантастическая литература (1917-1991 годы). Книга вторая. Некоторые проблемы истории и теории жанра краткое содержание
Анатолий Фёдорович Бритиков — советский литературовед, критик, один из ведущих специалистов в области русской и советской научной фантастики.
В фундаментальном труде «Отечественная научно-фантастическая литература (1917-1991 годы)» исследуется советская научно-фантастическая проза, монография не имеет равных по широте и глубине охвата предметной области. Труд был издан мизерным тиражом в 100 экземпляров и практически недоступен массовому читателю.
В данном файле публикуется вторая книга: «Некоторые проблемы истории и теории жанра».
Отечественная научно-фантастическая литература (1917-1991 годы). Книга вторая. Некоторые проблемы истории и теории жанра - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Для Стругацких же научность почему-то эквивалентна механическому расчету (кстати сказать — в соответствии с трактовкой научной фантастики их оппонентами-«предельщиками»). Писатели ссылаются на собственный опыт. Их ранние повести, говорят они, были «результатом последовательной, планомерной, до конца наперед рассчитанной работы» [452] А.Стругацкий, Б.Стругацкий - Давайте думать о будущем.
. Позднейшие их произведения — «Трудно быть богом», «Улитка на склоне» — шли уже, по словам Стругацких, «не из четкого замысла хорошо разработанного плана… и не от оригинальной логической модели, а как раз вопреки всему этому» [453] Там же.
.
В самом деле: в этих произведениях больше живого чувства и поэтических красок. Но это общее их свойство не помешало им оказаться на противоположных концах того спектра жанров и направлений, который развернут в статье Стругацких. В повести «Трудно быть богом» драматизм и лиричность хорошо уживаются с научной фантастикой, тогда как «Улитка» — типичное порождение фантастики как приема, которую Стругацкие почему-то именуют реалистической. В основе фантастических коллизий первой повести, по моему мнению, — актуальная ныне истина научного социализма об авантюризме экспорта революции, о непреложности предпосылок социального прогресса внутри самого общества. «Космизм» фантастического обобщения позволяет соотнести повесть с многими явлениями мнимой революционности. Предостережения же «Улитки» настолько темны и сумбурны, что писателей даже обвиняли в сочинении пасквиля на советскую действительность [454] В.Александров - Против чуждых нам взглядов. // Правда Бурятии, 1968, №116, 19 мая.
. Думается, это такая же крайность, как и противоположная попытка — переадресовать фантастические иносказания капитализму [455] А.Лебедев - Реалистическая фантастика и фантастическая реальность. // Новый мир, 1968, №11.
. В фантасмагориях «Улитки» можно вычитать все, что угодно: хотите, понимайте это как сатиру на капитализм, хотите, как сатиру на извращения социализма, а хотите — и как нечто третье, по выражению Стругацких, «даже вовсе невозможное»… А между тем предисловие ко второй части этой повести, написанное А.Громовой, внушает, будто фантастика «Улитки» более высокого ранга, только, мол, она «рассчитана на… квалифицированных, активно мыслящих читателей» [456] Байкал, 1968, №1, с.36.
.
М.Е.Салтыков-Щедрин, кого А. и Б.Стругацкие в одной своей статье назвали среди классиков, чьему художественному опыту они хотели бы следовать, утверждал: «…чтоб сатира была действительно сатирою и достигала своей цели, надобно, во-первых, чтоб она давала почувствовать читателю тот идеал, из которого отправляется творец ее, и, во-вторых, чтоб она вполне ясно сознавала тот предмет, против которого направлено её жало» [457] См. в кн.: Русские писатели о литературном труде, т.2. // Л.: Сов. пис., 1955. с.678.
. В «Улитке» нарушены сразу оба условия. Здесь нет и следа той идеологической определенности, с какой писатели выразили свое, пусть рационалистическое, представление о коммунизме в «Возвращении» или с какой нарисовали в «Хищных вещах века» предостерегающую, пусть и спорную, модель мещанского «коммунизма». А. и Б.Стругацкие пренебрегли самым главным в щедринском опыте — реализмом художественного метода.
Применительно к фантастике реализм эквивалентен научности анализа (прогноза) поднимаемых проблем. Если вкладывать в определение «реалистическая фантастика» хоть сколько-нибудь отвечающий ему смысл, то мера научности фантазии и есть принципиальная мера реализма. Если «бытовик» ещё может выявить тенденцию, эмпирически наблюдая стоящую перед его глазами действительность, то фантаст, когда он надеется проследить эту тенденцию в воображаемых обстоятельствах, посредством одного лишь интуитивно подобранного условно-литературного приема, заведомо обрекает себя на недостоверность, т.е. на отказ от реализма. А по справедливому замечанию З.Файнбург, мера достоверности, мера научности фантастических гипотез есть мера прогрессивности социально-фантастического произведения [458] З.Файнбург - Современное общество и НФ. // Вопросы философии, 1967, №6. с.35.
.
С одной стороны, А. и Б.Стругацкие как будто за такую фантастику, которая показала бы, по их словам, «вторжение будущего в настоящее», а с другой, — они не дают ей сколько-нибудь надежного инструмента. Заголовком своей статьи — «Давайте думать о будущем» — писатели как будто выступают против плоского изображательства «предельщиков», а всем содержанием толкают опять же к изображательству только другого свойства — неуправляемому.
В раннем творчестве А. и Б.Стругацких научно-фантастическое моделирование будущего тоже было довольно приблизительным, и оттого-то, думается, писатели так легко с ним расстались. Недостаточно обоснованную научную посылку они произвольно заменяли условной. Стругацкие, например, отстаивали свое право переносить в будущее наших лучших современников, — мол, им уже по плечу коммунистический мир. На деле, однако, в их повестях оказалась довольно пестрая компания, мало согласующаяся с представлением о новом человеке. Человек будущеего, заметил в этой связи И.Ефремов, явится «продуктом совершенно другого общества» [459] Как создавался «Час Быка»: Беседа с Иваном Ефремовым, с.313. (Курсив мой, - А.Б.).
. Метод действительно научной фантастики предполагает, что уровень личности должен соответствовать уровню общества, в котором она живет и действует. А если, заключает И.Ефремов, твои герои «в чем-то кажутся искусственными… в этом, наверное, сказались недостатки писательского мастерства. Но принцип правилен» [460] Там же. с.314.
.
Принцип научности нисколько не отменяет того, чтобы современная фантастика использовала весь широкий спектр допущений — от строго обоснованных до заведомо чудесных. Без этого невозможно настоящее искусство, за которое ратуют А. и Б.Стругацкие и о котором забывают ригоричные блюстители строгой научности. Но подобно тому, как не дело науки обосновывать сказочные чудеса, так и литературная условность не должна претендовать на то, что под силу лишь хорошо аргументированной гипотезе. Вот в эту «тонкость» и упирается методологический изъян сторонников вне научной или условно-литературной фантастики.
Между тем «Литературная газета», подытоживая дискуссию, уверяла, что « все направления хороши в той мере, в какой они помогают решению главных задач всей нашей литературы — задач коммунистического воспитания» [461] От редакции. Лит. газета, 1970, № 10, 4 марта. (Курсив мой, - А.Б.). //
. В том-то и дело: в какой мере? Ведь вне научное направление заведомо снимает с себя важнейшую, по справедливому определению «Литературной газеты», задачу нашей фантастики — «показ будущеего… с позиций научного коммунизма» [462] Там же. (Курсив мой, - А.Б.).
, а механическая научная фантастика тоже не обеспечивает решение этой задачи. На поверхность дискуссии вышли такие «сакраментальные» альтернативы, как «научно — не научно», «художественно — не художественно», «луч мечты или потемки», которые возвращали спор на давно пройденный уровень. На периферии полемики оказались и не нашли отражения в редакционном резюме (статьи, например, З.Файнбург, Е.Тамарченко), ставившие действительно актуальные вопросы: как понимать научность фантастики разных направлений и в чем специфическая художественность научной фантастики.
Интервал:
Закладка: