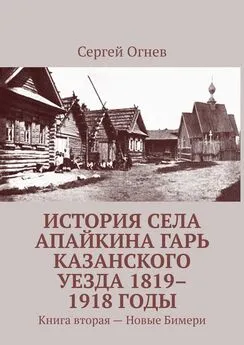Анатолий Бритиков - Отечественная научно-фантастическая литература (1917-1991 годы). Книга вторая. Некоторые проблемы истории и теории жанра
- Название:Отечественная научно-фантастическая литература (1917-1991 годы). Книга вторая. Некоторые проблемы истории и теории жанра
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Творческий центр «Борей-Арт»
- Год:2005
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:5-7187-0628-Х
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Анатолий Бритиков - Отечественная научно-фантастическая литература (1917-1991 годы). Книга вторая. Некоторые проблемы истории и теории жанра краткое содержание
Анатолий Фёдорович Бритиков — советский литературовед, критик, один из ведущих специалистов в области русской и советской научной фантастики.
В фундаментальном труде «Отечественная научно-фантастическая литература (1917-1991 годы)» исследуется советская научно-фантастическая проза, монография не имеет равных по широте и глубине охвата предметной области. Труд был издан мизерным тиражом в 100 экземпляров и практически недоступен массовому читателю.
В данном файле публикуется вторая книга: «Некоторые проблемы истории и теории жанра».
Отечественная научно-фантастическая литература (1917-1991 годы). Книга вторая. Некоторые проблемы истории и теории жанра - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Если ученого можно сравнить с селекционером-новатором, который выводит небывалый вид, то писатели-фантасты уподобляются армии опытников, производящих массовый эксперимент. Этот эксперимент особенный: во-первых, мысленный, во-вторых, необычайно масштабный. Без испытания «сумасшедших» идей в миллионах умов сознание человечества шло как бы вперед много медленней. Количество переходит в качество. Тем более, что одних читателей — научных работников сегодня больше, чем было в начале века всех читателей вообще.
Фантастика Ж.Верна была в основном просветительской. Характерная особенность современной научной фантастики в том, что она активно участвует в выработке принципиально новых представлений об окружающем мире. Она является знамением научно-технической революции, которая дала нам атомную энергию, космический корабль, физику элементарных частиц, кибернетику, молекулярную биологию. Эта революция стала возможна лишь с привлечением к научному творчеству огромных масс людей. Постоянное обновление массового научного мышления — решающий фактор прогресса науки. Знамя новой научной фантастики — знамя дискуссии. Сегодня фантастика меньше всего ориентируется на устоявшиеся идеи и решения. Она выдвигает на всенародное обсуждение самые спорные. Если раньше критерием научности для неё была грамотная ориентированность, то сегодня этого уже мало. От фантастики ждут и требуют того остроумия, той парадоксальности, которые столь характерны для науки середины XX века.
XIX век жил в познанном ньютоновском времени. Его обыденный опыт в основном совпадал с объективной картиной этого мира. XX век вступил в мир эйнштейновский, парадоксально не совпадающий с обыденным опытом. Ядерные частицы, существующие относительность законов физики в разных системах (время в звездолёте, несущемся со скоростью света, сжимается, тогда как на Земле движется нормально), текучесть структур живого и само появление живого из неживого на определенном уровне органических соединений — всё это не только новые факты, но и новая система сознания. Между глазом, сигнализирующим разуму о кванте, и самим квантом — беспримерная по сложности цепь приборов и диалектика понятий.
Возникает необходимость в новой абстракции — не только более сложной, но и существенно иной, чем в ньютоновских научных представлениях. Всё больше обнаруживается явлений, которые нельзя объяснить однозначно, понятием дискретным, т.е. прерывным, с резко очерченными границами. Погружаясь в этот странный мир, физика вынуждена дополнять точные дискретные определения образными, неточными, но зато обобщенно схватывающими изменчивое явление в отношениях с другими.
Принцип релятивизма распространяется на сам процесс познания и мышление ищет соответственные формы. На симпозиуме «Творчество и современный научный прогресс» шла речь о том, что эстетические критерии изящества и красоты научного исследования, сравнительно давно употреблявшиеся основателями новой физики, приобретают более глубокий смысл своего рода принципа дополнительности к дискретным определениям. Многозначные формы художественной гармонии оказываются родственны релятивистскому идеалу современной науки. Намечается нужда в каком-то сближении, быть может, синтезе мышления научного с художественным.
Современная фантастика не только полна релятивистского научного материала, который был неизвестен Ж.Верну, но и психологически готовит свою огромную аудиторию воспринять новый стиль научного мышления, вырабатывающийся в необычайно усложняющейся диалектике конечного и бесконечного, постоянного и текучего. По своей промежуточной природе — между искусством и наукой — научная фантастика и отражает этот процесс, и выступает (как подчеркивали участники симпозиума) одной из форм сближения дискретной логики естественных наук с непрерывно-образной логикой искусства. Осознание неизбежности «странного мира» вокруг нас — важнейшая ее психологическая функция, быть может, самая реальная в ее фантастической специфике.
Осознание, впрочем, — не совсем то слово. Знать в конце концов дело науки. Но фантастика, несомненно, остро дает почувствовать неизбежность необычайного в обыденном. А.Флеминг, человек, открывший пенициллин, говорил: «Никогда не пренебрегайте ни тем, что кажется внешне странным, ни каким-то необычным явлением; зачастую это ложная тревога, но… это может послужить ключом к важной истине». [40] цит. по кн.: А.Моруа - Жизнь Александра Флеминга. // М.: Мол. гвардия, 1964. с.116.
Фантастика дает эмоциональную характеристику этому феномену. Она настраивает интуицию на предчувствие в глубинах ньютоновского мира новых «странных» истин, которые ожидают своих эйнштейнов.
Иногда современная фантастика сужает свою задачу до того, чтобы только привлечь внимание к области неведомого или посеять сомнение в непреложности рутинного. Взятая в целом, в потоке (здесь вновь выступает закон массовости ее воздействия), такая фантастика вырастает порой в какую-то огромную антитезу так называемому здравому смыслу. Она как бы напоминает, что обыденный опыт здрав лишь в ограниченных пределах. Она обновляет вечный девиз творчества (тускнеющий в периоды консервативного рационализма): подвергай все сомнению.
Мы опускаем перед такой фантастикой определение «научная» не потому, что она идет мимо науки, а лишь потому, что не укладывается в традиционные рамки научно-фантастического жанра. Она любит перевертывать вещи и понятия, и то, что сперва могло показаться поставленным с ног на голову, в действительности нередко оказывается истинным. В пафосе отрицания она замахивается на коренные понятия и избегает научного обоснования своих новаций. И все-таки она не перестает быть литературой, в чем-то очень важном близкой познанию.
В сущности фантастика переходит здесь от экстраполяции конкретных истин и проблем к своеобразной экстраполяции желаний. «Почему бы нет?» — вопрошает она. Так озаглавил свою статью о фантастических произведениях Г.Гора А.Стиль. Французский писатель мыслит творчество Г.Гора на середине «развернутого веера» научной фантастики. Левее — то направление, которое зовет желать еще более странного, еще более невозможного с точки зрения сегодняшних (и даже завтрашних) понятий.
Раздражение, обвинение почти в кощунстве вызывала у сторонников фантазии на грани возможного фантастика антимиров и антипространств, антивещества и антивремени. [41] См., например: Н.Томан - Фантазировать и знать! // Литература и жизнь, 1959, 18 дек.
Но, видимо, корни этих «анти» следует искать не в злонамеренности фантастов, а в парадоксах самой науки. Если, например, уже обнаружены античастицы, антиатомы, то насилием над логикой было бы отбросить предположение об антивеществе. И не обязанность ли фантаста, не страшась неизвестности, следовать дальше по этому пути в антимиры, анти- и нуль-пространства? Ведь это задача науки — находить и утверждать истину…
Интервал:
Закладка: