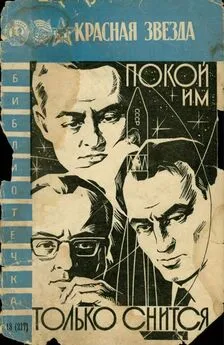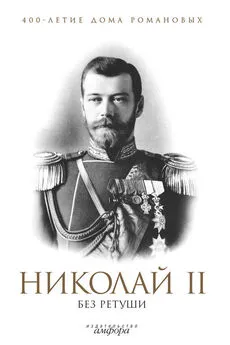Николай Мельников - Классик без ретуши
- Название:Классик без ретуши
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2000
- Город:Москва
- ISBN:5-86793-089-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Мельников - Классик без ретуши краткое содержание
В книге впервые в таком объеме собраны критические отзывы о творчестве В.В. Набокова (1899–1977), объективно представляющие особенности эстетической рецепции творчества писателя на всем протяжении его жизненного пути: сначала в литературных кругах русского зарубежья, затем — в западном литературном мире.
Именно этими отзывами (как положительными, так и ядовито-негативными) сопровождали первые публикации произведений Набокова его современники, критики и писатели. Среди них — такие яркие литературные фигуры, как Г. Адамович, Ю. Айхенвальд, П. Бицилли, В. Вейдле, М. Осоргин, Г. Струве, В. Ходасевич, П. Акройд, Дж. Апдайк, Э. Бёрджесс, С. Лем, Дж.К. Оутс, А. Роб-Грийе, Ж.-П. Сартр, Э. Уилсон и др.
Уникальность собранного фактического материала (зачастую малодоступного даже для специалистов) превращает сборник статей и рецензий (а также эссе, пародий, фрагментов писем) в необходимейшее пособие для более глубокого постижения набоковского феномена, в своеобразную хрестоматию, представляющую историю мировой критики на протяжении полувека, показывающую литературные нравы, эстетические пристрастия и вкусы целой эпохи.
Классик без ретуши - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Остаться навсегда в замкнутом и вместе с тем безграничном мире шахматных комбинаций — в своем родном мире, в своем духовном отечестве — Лужину, однако, не дано. Если в замысле Набокова есть оттенок драматический, то он именно в том, что места или, вернее, покоя Лужину нигде не найти и что самоубийство его оправданно. Шахматы доводят его чуть ли не до сумасшествия. Жена оберегает его от малейших напоминаний о них, делает все возможное, чтобы не попалась ему на глаза газета с шахматной задачей, старается развлечь его, вытравить в его мозгу малейшие остатки или следы былой страсти. Супруги путешествуют, ходят в гости, живут как все другие люди. Но напрасно. Лужин и к этой ординарной, не совсем ему понятной и, в сущности, чуждой обыденщине применяет в мышлении своем шахматный метод, ищет «защиты» от жизни, которой с лихвой удовольствовался бы человек другого душевного склада, — и приходит к убеждению, что, кроме смерти, подлинной защиты нет.
Сочувствует ли автор «Защиты Лужина» своему незадачливому герою? Лужин — создание слишком диковинное, чтобы на такой вопрос можно было ответить с уверенностью, положительно или отрицательно (впрочем, и при чтении Гоголя уверенности порой нет: сочувствует ли, например, он Акакию Акакиевичу Башмачкину или издевается над ним, как утверждал Достоевский? Оба предположения допустимы). Не думаю все-таки, чтобы у Набокова было сочувствие. Оно заменено в романе ироническим и даже гневным отталкиванием от мира, от среды, которая должна бы Лужина спасти после того, как с шахматами он расстался. Среда не только неприглядна. С пошлостью, — во вкрадчивом, язвительном изображении которой Набоков великий мастер, — примириться на крайность можно бы. Много хуже пошлости жестокость. Люди мучают друг друга, и притом во всех масштабах: и частном, повседневном или мелко-общественном, со всяческими интригами и враждой, и в масштабе, так сказать, «планетарном», с войнами и революциями А жена Лужина, готовая собой пожертвовать, отказавшаяся от привычных, безмятежных житейских удобств, ставшая тенью больного и, если вдуматься, невинно-неблагодарного человека? Вероятно, именно в ее образе можно было бы, в согласии с замыслом Набокова, найти какую-то «защиту» от того, что Лужина угнетает. Но если лично мне это и представляется естественным, нужным, несомненным, то не менее твердо мое убеждение, что решать что-либо за автора и навязывать ему свое мнение никто не вправе.
Два слова в заключение о формальных особенностях набоковского повествовательного стиля, связанного с современным западным, послепрустовским реализмом. Читателей, свыкшихся с книгами русскими, пусть и недавно написанными, может удивить сравнительно малое количество разговоров и краткость их. Они заметят и то, что большинство разговоров включено в текст как нечто отнюдь не требующее типографского выделения, прерывистых строк и белых мест. Это, разумеется, не случайно: это — одно из следствий иного, чем в прошлом столетии и чем у былых великих прозаиков толстовского типа, восприятия реальности, а отчасти и законных, необходимых поисков иной, новой манеры. Если же у кого-либо возникнут сомнения в умении и способности Набокова воспроизвести бытовой эпизод с прежней, ослепительной, классической яркостью, пусть, например, обратит он внимание в начале одиннадцатой главы на сцену у портного, достойную сравнения с незабываемыми туалетными обрядами Чичикова или Стивы Облонского.
Но главное, конечно, не в отдельных эпизодах, а в том ровном, будто беззвучном словесном потоке, который представляет собой «Защита Лужина»: печальная и странная история, лишний раз наводящая на мысль, что ничего в нашем существовании нельзя предвидеть и что, вглядываясь в него, сквозь бесконечную его сложность, истинный художник улавливает законы, которым и подчиняет свое творчество, будучи, однако, сам не в силах найти им объяснение.
В кн.: В. Набоков. Защита Лужина. Paris: Éditions de la Seine, <���б. г. >. С. 3—15
СОГЛЯДАТАЙ
Впервые — Современные записки. 1930. № 44
Начало работы над повестью «Соглядатай» относится к декабрю 1929 г. [38]К концу зимы повесть была закончена, и уже 27 февраля 1930 г. писатель выступил с чтением первой главы на вечере Союза русских писателей. Именно в «Соглядатае», как позже утверждала Нина Берберова, Набоков созрел как прозаик, «и с этой поры для него открылся путь одного из крупнейших писателей нашего времени» [39].
В 1930 г., когда повесть появилась на страницах «Современных записок», так думали далеко не все критики. К. Зайцев <���см.>с упорством, достойным лучшего применения, продолжал обвинять Сирина (явно не отделяя героя-повествователя от автора) в беспросветном пессимизме и даже в онтологической клевете на человечество. (Правда, как это часто бывает, именно этому непримиримому сиринскому зоилу принадлежит емкая и лаконично-эффектная формула, наиболее точно передающая квинтэссенцию довоенного творчества Набокова: «Гротеск, написанный средством тончайшего и глубочайшего реализма».)
Столь же близоруко, как и К. Зайцев, отождествлял главного героя повести с автором П. Пильский, воздержавшийся, впрочем, от каких-либо оценок и ограничившийся замечаниями общего характера (изредка — отдадим ему должное — попадая в десятку): «Для Сирина мир — кружащаяся призрачность, может быть, — вертящаяся игрушка, ценные только потому, что их голоса и поблескивания находят отклик в творческой душе. Только это важно и вечно, — само по себе существование, бытие, жизнь не имеют никакой цены, облачны и едва ли реальны <���…> Мир — посторонен и ненужен. Все — только видение, лунатический бред, счастливые кошмары, и оскорбитель Смурова носит подходящую, красноречивую фамилию — Кашмарин. У Сирина — одержимость, и все его герои — тоже одержимые одной страстью, какой-либо одной идеей» (Сегодня 1930. 8 ноября. С. 6).
Влиятельнейший Г. Адамович, оперативно откликнувшийся на публикацию повести, безапелляционно заявил о том, что «„Соглядатай“ Сирина похож на фокус, не совсем удавшийся и потому вызывающий досаду вместо удивления» (Иллюстрированная Россия. 1930. 22 ноября. № 48. С. 22). Несколько дней спустя, уже в традиционном четверговом подвале «Последних новостей», он продолжал терзать «Соглядатая», уличая его создателя в «неискоренимом пристрастии к литературным упражнениям» <���см.>.
На неоправданность главного повествовательного фокуса «Соглядатая» (виртуозную путаницу с субъектом и объектом авторского рассказа, которая на самом деле органично увязана с основным смысловым ядром всего произведения — проблемой самоидентификации человеческой личности, ее многогранности, неравенства себе самой и, тем более, стереотипам, складывающимся в сознании других людей), равно как и на «произвольность» некоторых эпизодов (каких именно — не уточнялось), указывал В. Вейдле <���см.>, который тем не менее верно уловил одну из центральных тем и этого произведения, и всего творчества писателя.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: