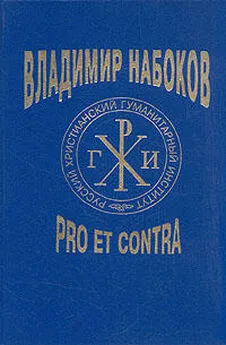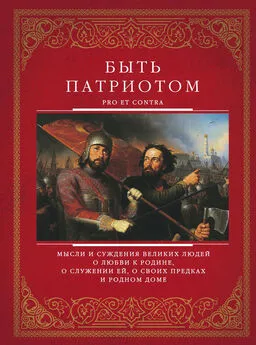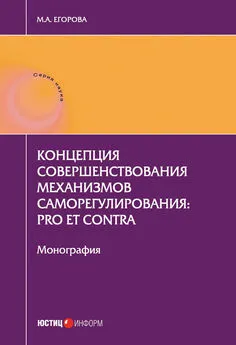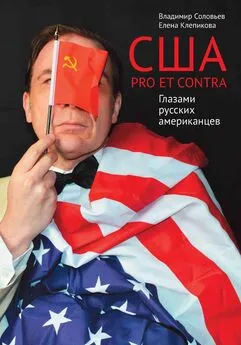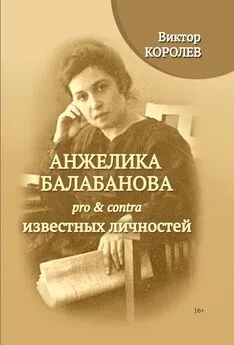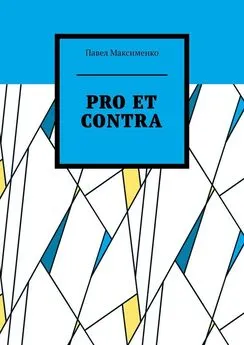Борис Аверин - Владимир Набоков: pro et contra
- Название:Владимир Набоков: pro et contra
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Русский Христианский Гуманитарный Институт
- Год:1999
- ISBN:5-88812-058-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Аверин - Владимир Набоков: pro et contra краткое содержание
В первый том двухтомника «В. В. Набоков: pro et contra» вошли избранные тексты В. Набокова, статьи эмигрантских критиков и исследования современных специалистов, которые могут быть полезны и интересны как для изучающих творчество В. Набокова, так и широкого круга читателей.
Владимир Набоков: pro et contra - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Карандаш Цинцинната — гораздо более надежный хронометр, чем явно продажные крепостные куранты. Цинциннат проводит в крепости девятнадцать дней, по главе на день, причем каждая глава начинает новый день, кроме последнего, занимающего главы девятнадцатую и двадцатую. В начале книги карандаш «изумительно очинён… длинный как жизнь любого человека, кроме Цинцинната». На самом деле, он в точности соизмерим с длиною остатка жизни Цинцинната в романе, иными словами, с длиною самого романа. Среди множества разноязыких литературных сочинений о казни посредством декапитации нет, вероятно, ни одного, где очевидный и плоский каламбур (глава) приходился бы так кстати, как в «Приглашении на казнь». Последние дни Цинцинната буквально сочтены, — изчислены по номерам глав, по одному дню per capita libri, и термин его заключения в романе кончается тогда, когда в последней главе он кладет голову на плаху. Таким образом, книга и ее герои в некотором смысле «обезглавлены» одновременно и взаимосвязанно [304]. Карандаш тут как бы шест для замера глубины времени, длина которого уменьшается прямо-пропорционально убывающему числу оставшихся неперевернутыми страниц. Всякий раз, что карандаш бывает заново очинён для обреченного узника, он, понятно, делается короче — и одновременно, и в той же самой доле, сокращается жизнь пишущего. В начале восьмой главы Цинциннат наблюдает, как Родион чинит для него карандаш: «Нынче восьмой день (писал Цинциннат карандашом, укоротившимся более чем на треть)» — точнее, ровно на две-пятых в то утро. В предпоследней же главе, как раз перед тем, как Цинциннату было оглашено приглашение к отсечению головы, он поспешно набрасывает розсыпь самых своих дальнозорких мыслей, как вдруг обнаруживает, что кончилась бумага. Он находит еще один, самый последний, чистый лист и сверху пишет слово, которое тотчас вымарывает, потому что оно кажется невыносимо неточным. И он зачеркивает это слово («смерть» [305]) своим сделавшимся теперь «карликовым» карандашом, который уже трудно держать и совсем невозможно очинить наново. (На мыслимом продолжении карандашной подсобной метафоры встречается любопытная мысль, что очинка никогда не сводит карандаш на нет, всегда остается черешок. Тут вспоминается Родословие Карандаша, забытого в ящике стола гостиничного номера в предпоследнем романе Набокова «Сквозняк из прошлого» (Transparent Things), а также «глубокомысленная» машинка для очинки карандашей в «Пнине», издающая при работе аппетитное хрумканье, которое внезапно обрывается какою-то неземной вращающейся пустотою, «что и всех нас ожидает», и слова Набокова о том, что на его карандашах резинки стираются быстрее грифелей). Наблюдательный перечитыватель находит то, что изобретательный автор искусно спрятал. Но Цинциннат, его творенье, обнаружить этого не может, да и не должен, потому что, открой он такой простой способ отмечать приближение надвигающегося финала, он должен был бы перестать пользоваться своим карандашом, тем самым тотчас прервав повествование, существенная часть которого написана этим именно карандашом [306]. Таким образом, карандаш в романе служит одновременно хронометром, по которому читатель может поверять местное время, и в некотором фигуральном смысле средством самого существования книги, необходимое расходование которого приближает неизбежный ее конец.
Обратимся теперь к пауку — другой ловко вставленной и часто повторяющейся подсказке, но опять-таки не Цинциннату, но его читателю, сидящему на дозорной каланче с подзорной трубой, высоко за пределами Цинциннатова мирка. Всякий раз, что паук получает какую-нибудь снедь из рук Родиона, повествование еще на один заметный шаг приближается к окончательному обезглавливанью, ибо каждая такая кормежка отмечает новую пытку Цинцинната напрасной надеждой. Другими словами, имеется настоящая, сказочная связь между ежедневной процедурой кормления камерного мизгиря и рационом страданий, отпущенных в этот день Цинциннату, — за сладкой приманкой неизменно следует едкий обман. Этот «официальный друг заключенных», которого Цинциннат находит в своей камере в начале столь быстро подбирающегося к концу повествования — не просто «меньшой в цирковой семье», где М'сье Пьер одновременно Петрушка и глава. Обряд кормления и пантомима, которая его часто сопровождает, напоминают те многозначительные немые прологи, которые предваряли пьесу на старом театре; но Цинциннат не может, и не должен, отгадать их значения. Всякий раз что перед Цинциннатом разыгрывают этот глубокомысленный фарс, он прилежно отмечает новую разновидность ритуала, не замечая, однако, того, что незадолго перед тем или вскоре вслед за тем его слабую надежду сокрушает очередной, с каждым разом все более болезненный и вероломный удар, тщательно подготовленный его истязателями. Так, на четвертый день, Родион кормит паука во время посещения Эммочки; после чего Цинциннат обнаруживает серию ее рисунков, которые как-будто набрасывают план побега, но потом он оказывается одной из самых безжалостных ловушек.
На пятый день, мохнатый муховор, верхом на Родионовом пальце, наблюдает за Цинциннатом, которому назавтра обещано как-будто свидание с женой (разумеется, он грубо заморочен и еще через день вместо Марфиньки является М'сье Пьер). На шестой, когда его такая заманчивая поначалу прогулка, петляя, приводит его обратно в камеру, Цинциннат обращает внимание на то, что паук обзавелся новенькой, «безукоризненно правильной, очевидно только что созданной паутиной». На седьмой день стражник вместо Марфиньки впускает в камеру Цинциннатова палача, тоже в своем роде оффициального друга заключенного, который проживет в том же каземате две недели, приготовляя Цинцинната к торжественному фарсу обручения на эшафоте. (Между прочим, никто, кажется, не заметил, что этот мотив звучит и в «Улиссе» Джойса, в эпизоде в кабаке Барни Кирнана.) Кроме того, нельзя, мне кажется, не видеть в повадке, тоне, во всем обращении М'сье Пьера с Цинциннатом сходства с манерою и обращением Голядкина-«младшего», демонического двойника из очень дурно написанной, мучительно-искусственной «мистической пародии» Достоевского (которую Набоков, вообще Достоевского, как известно, не терпевший, считал отчего-то лучшим его сочинением!).
Десятый день: покуда паук проделывает «нетрудный маленький трюк над паутиной», М'сье Пьер встает на руки и его «перевернутые глаза… стали похожи на глаза спрута». Спрут — осьминог; паук тоже (в отличие от насекомых), и это еще больше подчеркивает родство главного клоуна Петра Петровича и его меньшого брата, Полишинеля. День одиннадцатый, с которого начинается вторая половина заключения Цинцинната в остроге: «упитанный» зверек перебирается, вместе со своей сетью и прочим имуществом, на другое место, в угол отлогой и глубокой оконной ниши. В этот переломный для течения романа день две темы, которые доселе шли параллельным курсом, на миг пересекаются. Когда Цинциннат тычет своим карандашом (потерявшим ровно половину первоначальной длины) в паука, тот пятится, не спуская с него глаз. Зато он берет «с большой охотой… кончиками лап из громадных пальцев Родиона муху или мотылька — и вот сейчас, например, на юго-западе паутины висело сиротливое бабочкино крыло, румяное, с шелковистой тенью и с синими ромбиками по зубчатому краю» [307]. Позже в тот же день Родион приносит пауку другую бабочку, из чего должно заключить, что Цинциннату уже вырыта новая яма, в которую его станут загонять. И точно, в ту же ночь, проснувшись, Цинциннат слышит скреб и стук за стеной, и будет слышать эти упоительные звуки несколько ночей сряду, лелея сумасшедшую, хрупкую надежду. Когда подземный тоннель наконец прорыт, из него вылезает кат со своим подручным и принуждает Цинцинната ползти к нему в соседнюю камеру. Между прочим, Цинциннат не обращает внимания на то, что покамест он находится в камере М'сье Пьера, его мучители мельком приоткрывают ему не только топор, который предназначен отделить его голову от туловища, но и день, когда это имеет произойти, чего он так домогался, «малиновую цифру» на стенном календаре, на который Цинциннату дали бросить взгляд еще прежде того: «Завтра, завтра осуществится то, о чем вы мечтаете [тут по крайней мере двойное дно: Цинциннат ждет свидания с женой, Родриг имеет в виду прибытие в крепость палача]… А миленький календарь, правда? Художественная работа. Нет, это я не вам принес».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: