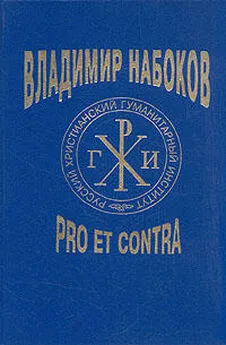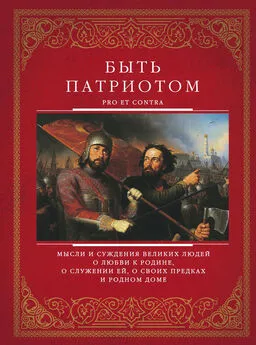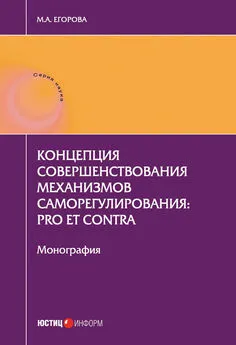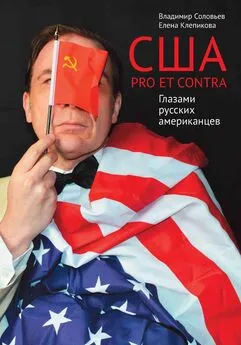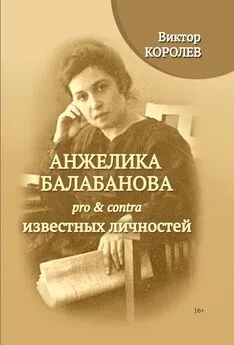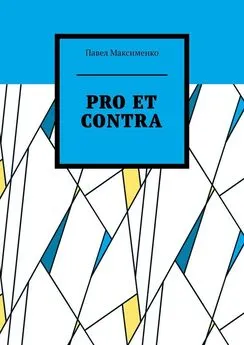Борис Аверин - Владимир Набоков: pro et contra
- Название:Владимир Набоков: pro et contra
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Русский Христианский Гуманитарный Институт
- Год:1999
- ISBN:5-88812-058-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Аверин - Владимир Набоков: pro et contra краткое содержание
В первый том двухтомника «В. В. Набоков: pro et contra» вошли избранные тексты В. Набокова, статьи эмигрантских критиков и исследования современных специалистов, которые могут быть полезны и интересны как для изучающих творчество В. Набокова, так и широкого круга читателей.
Владимир Набоков: pro et contra - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Впрочем, Достоевский здесь не только присутствует как предмет литературного спора; сама ситуация пусть не повторяет, но весьма близко напоминает уже знакомое: герои одного романа Достоевского («Униженные и оскорбленные») читают, обсуждают и критикуют события другого романа Достоевского же («Бедные люди»); герой-сочинитель легко и свободно убирает препоны, существующие между двумя произведениями одного и того же автора: одни герои писателя становятся создателями его сочинений, другие — их читателями и рецензентами.
Чувствовал ли Набоков, отдавал ли себе отчет, что в одном из самых замысловатых и виртуозных своих текстов использовал — если говорить о контексте русской классики — специфический «достоевский» прием? Задумывался ли автор «Дара» (романа, который называют романом о русской литературе) о том, что ни у кого из его предшественников по российской словесности, кроме Достоевского, нет такого огромного количества персонажей, сочинителей и писателей, литературных салонов и споров? И что уже только по одному этому обстоятельству можно уверенно говорить о наличии сходства между ним и Достоевским?
Но вот что странно: в лекциях Набоков не говорит ни слова о мире сочинителей у Достоевского — он говорит о мире преступников и душевнобольных. Допустим. Но подсчитывал ли кто-нибудь из почитателей Набокова (как он сам это делал по отношению к Достоевскому), сколько убийств, безумств, а также трупов в его романах — хотя бы в «Лолите», истории о преступной, шокирующей страсти? Там погибают или умирают все главные герои. И если к списку психических болезней, составленных Набоковым для Достоевского, приложить список героев Набокова, то их с лихвой хватит, чтобы заполнить все строчки на все клинические случаи. Ибо если Рогожин — эротоман, то кто тогда Гумберт Гумберт, нимфолепт, «пятиногое чудовище», или Куильти, половой монстр и содомит даже на вкус Гумберта? И если Раскольников — «случай временного помутнения рассудка», то кто же такой Герман Карлович из романа «Отчаяние»?
Впрочем, оба эти сюжета у нас впереди.
Зинаида Шаховская резонно замечает: «Странен „упрек“ Набокова Достоевскому, что он автор полицейских романов. А что такое тогда „Король, дама, валет“, „Отчаяние“, „Камера обскура“? Даже в „Лолите“ есть „уголовщина“, если судить только по фабуле. Нет ли элемента преступления и наказания в „Приглашении на казнь“? Оба писателя были одержимы — по-разному. Пламенному исступлению Достоевского отвечает ледяная бесстрастность Набокова, но ведь и лед жжет» [433].
Однако упреки Достоевскому в детективщике странны не только потому, что криминальные сюжеты у Набокова столь же часты. По самому качеству романной интриги, по механике тайны произведения, начиненные уголовщиной, у Набокова имеют куда больше оснований быть причисленными к жанру детектива, чем, скажем, «Преступление и наказание». Ведь Достоевский не скрывает, как это принято законами жанра, лица и имени преступника. Для него вопрос, кто убил, не актуален — и читатель всегда знает эту тайну с самого начала. Набоков же тщательно прячет (как, например, в «Лолите») фигуру истинного растлителя двенадцатилетней школьницы. И так маскирует само его существование, что даже и через три года безнадежных поисков по всей Америке сбежавшей нимфетки Гумберт Гумберт не знает имени ее соблазнителя.
Но что, в конце концов, детектив! Никто и не думает упрекать Набокова в том, что он скрыл от глаз не слишком внимательного читателя следы распутника и пошляка Куильти. Не в этом дело — в «Лолите» есть магниты попритягательней! Нелепый Достоевский с его религиозной экзальтацией, реакционной публицистикой, литературными банальностями — и «Лолита», стилистическое чудо, эротическое откровение, роман, принесший Набокову не просто известность, а сенсационную, мировую, пусть и скандальную, но заслуженную, выстраданную — славу. Можно ли тут сравнивать? Но не будем торопиться с нелестными для «посредственного» Достоевского выводами.
Вот хотя бы главный герой, начитанный, эрудированный Гумберт Гумберт. Что ни шаг, то литературная параллель, что ни мысль — стилистическая ассоциация. Ему приходится принимать сложные, ответственные решения — ну, например, когда он должен ответить на любовное письмо «перезрелой вдовушки», матери Лолиты. «Уничтожив письмо и вернувшись к себе в комнату, я некоторое время, — сообщает Гумберт, — размышлял, ерошил себе волосы, дефилировал в своем фиолетовом халате, стонал сквозь стиснутые зубы — и внезапно… Внезапно, господа присяжные, я почуял, что сквозь самую эту гримасу, искажавшую мне рот, усмешечка из Достоевского брезжит как далекая и ужасная заря. В новых условиях улучшившейся видимости я стал представлять себе все те ласки, которыми походя мог бы осыпать Лолиту муж ее матери. Мне бы удалось всласть прижаться к ней раза три в день — каждый день. Испарились бы все мои заботы. Я стал бы здоровым человеком» (курсив мой. — Л. С. ). Но задолго до «Лолиты» этой же, в сущности, страстью был одержим другой персонаж Набокова — брутальный и бравурный «российский пошляк» Щеголев из «Дара», отчим Зины и хозяин квартиры, где снимает комнату Годунов-Чердынцев. То ли намекая на свои личные переживания, то ли бесплодно мечтая, он признается:
«Эх, кабы у меня было времечко, я бы такой роман накатал… Из настоящей жизни. Вот представьте себе такую историю: старый пес — но еще в соку, с огнем, с жаждой счастья, — знакомится с вдовицей, а у нее дочка, совсем еще девочка, — знаете, когда еще ничего не оформилось, а уже ходит так, что с ума сойти. Бледненькая, легонькая, под глазами синева, — и конечно на старого хрыча не смотрит. Что делать? И вот, недолго думая, он, видите ли, на вдовице женится. Хорошо-с. Вот зажили втроем. Тут можно без конца описывать — соблазн, вечную пыточку, зуд, безумную надежду. И в общем — просчет. Время бежит-летит, он стареет, она расцветает, — и ни черта. Пройдет, бывало, рядом, обожжет презрительным взглядом. А? Чувствуете трагедию Достоевского?»
Но что этим сладострастникам дался Достоевский? «Ставрогин — случай нравственной неполноценности», — любил говорить на своих лекциях Набоков. Но ведь это он, Николай Всеволодович, мужчина «звериного сладострастия», приглядел, совратил и довел до самоубийства девочку «лет четырнадцати, совсем ребенка на вид» (в вариантах главы «У Тихона» Матреша еще моложе — ей «уже был двенадцатый год» [434]. Заметим, что, соблазнив Матрешу, Ставрогин совершил куда более страшное преступление и куда более отважный эротический эксперимент: ведь Матреша была не нимфетка — «дитя-демон», а девочка «белобрысая и весноватая, лицо обыкновенное, но очень много детского и тихого, чрезвычайно тихого». Конечно, Гумберт — эротоман с принципами: «он относился крайне бережно к обыкновенным детям, к их чистоте, открытой обидам, и ни при каких обстоятельствах не посягнул бы на невинность ребенка…»; хотя нимфетку от не-нимфетки различает на свой страх и риск и, что называется, на глазок.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: