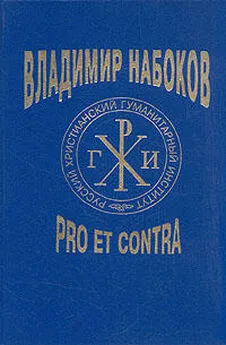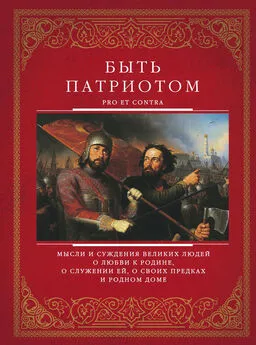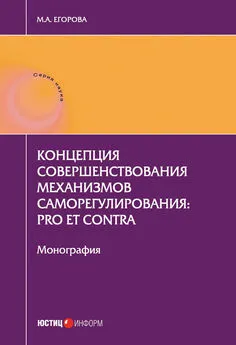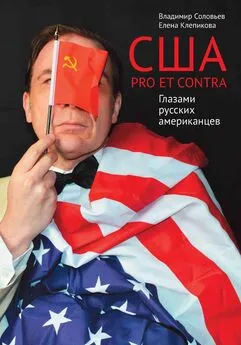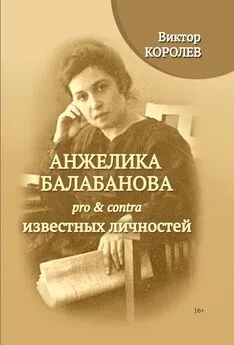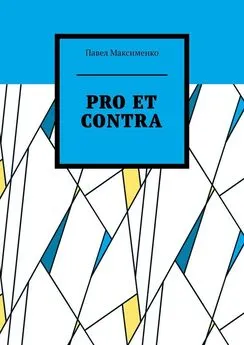Борис Аверин - Владимир Набоков: pro et contra
- Название:Владимир Набоков: pro et contra
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Русский Христианский Гуманитарный Институт
- Год:1999
- ISBN:5-88812-058-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Аверин - Владимир Набоков: pro et contra краткое содержание
В первый том двухтомника «В. В. Набоков: pro et contra» вошли избранные тексты В. Набокова, статьи эмигрантских критиков и исследования современных специалистов, которые могут быть полезны и интересны как для изучающих творчество В. Набокова, так и широкого круга читателей.
Владимир Набоков: pro et contra - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Странные фокусы проделывали герои Набокова с ним, «совершеннейшим диктатором». И как он сам мог позволить, чтобы Герман Карлович уподоблялся противнику в позорном, постыдном чувстве? Маг и волшебник по части убийств мнимых двойников, Герман Карлович издевался над сентиментальной чепухой вроде нравственных страданий и раскаяния! «Стоп, господа, — провозглашал он. — …Никаких, господа, сочувственных вздохов. Стоп, жалость. Я не принимаю вашего соболезнования, — а среди вас наверное найдутся такие, что пожалеют меня — непонятого поэта. „Дым, туман, струна дрожит в тумане“. Это не стишок, это из романа Достоевского „Кровь и Слюни“. Пардон. „Шульд унд Зюне“. О каком-либо раскаянии не может быть никакой речи, — художник не чувствует раскаяния, даже если его произведения не понимают».
Вот каким он был, дуэлянт-бретер, дерзкий оскорбитель. Зачем же, повторяю, нужно было диктатору Набокову, чтобы его герой так страдал и сокрушался — причем не только после выстрела, но и до него! Почему позволил ему быть существом слабым и рефлектирующим, у которого поминутно ноги дрожат и «сердце чешется»? С какой целью подвигнул на дело безумное, клинически сумасшедшее, а затем дал в руки перо, чтобы вынуть из намученного сердца отчаянную исповедь?
В финальной сцене романа перед читателем — обезумевший Герман Карлович, опустошенный и утративший точку бытия. Лишившись мании о чудесном сходстве, он опускается до тяжелого материалистического бреда:
«Предположим, я убил обезьяну. Не трогают. Предположим, что это — обезьяна особенно умная. Не трогают. Предположим, что это — обезьяна нового вида, говорящая, голая. Не трогают. Осмотрительно поднимаясь по этим тонким ступеням, можно добраться до Лейбница или Шекспира и убить их, и никто тебя не тронет, — так как все делалось постепенно, неизвестно, когда перейдена грань, после которой софисту приходится худо».
Вот он, отчетливо Достоевский лейтмотив: не перейти черту. Набоков заставил своего героя испытать все муки, все терзания героев Достоевского, которые «дерзнули». Набоков подверг их тем же нравственным пыткам, и человеческая природа («натура») ответила тем же воплем страдания и отчаяния. Набоков с блистательным мастерством показал, что любое виртуозно замышленное и артистически исполненное убийство имеет в своей основе роковой изъян, страшную улику, которая взорвет и обессмыслит затею. Набоков вынудил своего героя признать, что забытая им в таксомоторе палка с именем не просто оплошность, но метафора, символ: как несмываемые отпечатки пальцев. Набоков в конце концов лишил героя разума (за неимением у того веры) и превратил в гоголевского сумасшедшего. И это уже не Раскольников, а Поприщин заканчивает дневник — «отчет об одном преступлении» — дикими, безумными словами:
«Я подкрался к окну и осторожно отвел занавеску. На улице стоят зеваки, человек сто; и смотрят на мое окно. Хорошо по крайней мере, что затравили так скоро. Я опять отвел занавеску. Стоят и смотрят. Их сотни, тысячи, миллионы. Но полное молчание, только слышно, как дышат. Отворить окно, пожалуй, и произнести небольшую речь».
Ну, что ж: к герою, как говорится, суд вопросов не имеет: отчаявшийся и обезумевший Герман Карлович, загнавший себя, как мышь, в мышеловку, в буквальном смысле покинутый Богом («Зеркала, слава Богу, в комнате нет, как нет и Бога, которого славлю»), дал показания честные и исчерпывающие. Но что же сам Набоков? А сам Набоков много лет спустя после приключения со «спокойным и уравновешенным» Германом Карловичем как бы даже и забыл свой опыт. Во всяком случае, лекции о «Преступлении и наказании» он завершал легкомысленной, опрометчивой ссылкой на анархиста Петра Кропоткина, который «за изображением Раскольникова чувствовал самого Достоевского». Но ведь не хотел же автор «Отчаяния», чтобы за изображением Германа Карловича, по дурной аналогии, чувствовался он сам, Набоков?
Итак, в течение многих лет Набоков упорно, почти с маниакальной настойчивостью, создавал миф о своей эстетической несовместимости с художественным миром Достоевского как миром антихудожественным. Между тем творческие соприкосновения двух писателей (иные из этих соприкосновений, как мы видели, были весьма интенсивны) показывали другое: Набокова — с той же страстью, с какой он силился разоблачать, и столь же неудержимо — тянуло именно туда, в те же самые бездны. Несмотря на многочисленные и разнообразные художественные попытки (всегда или почти всегда, впрочем, блестящие), он не может вырваться из того, по-видимому, универсального круга проблем, которые являют собой специфику Достоевского. Страстное желание развенчать Достоевского путем лекционного речитатива скорее всего должно было компенсировать неудовлетворенность от собственных реплик в творческом споре. Набокова должно было необычайно раздражать то обстоятельство, что многие его романы, где следы Достоевского могли легко просматриваться, не опровергали, а чаще всего подтверждали художественную логику антагониста. Набокову не удавалось да так и не удалось творчески оспорить те открытия, которые по праву числились за Достоевским; более того: как художник, чуткий к истине, Набоков ощущал, может быть, что какие-то из его наиболее бесспорных творческих удач так или иначе ассоциируются с ненавистным именем. В «Даре» молодой писатель Годунов-Чердынцев, выполняя за Набокова литературное поручение, говорил: «Обратное превращение Бедлама в Вифлеем — вот вам Достоевский». Но и сам Набоков не слишком уклонялся от заданной метаморфозы, разве что пытаясь задать ей противоположный вектор.
За многолетними напряженными, сильно компрометирующими Набокова-профессора усилиями видится страстное, яростное стремление Набокова-писателя вырваться из плена, который Набоков-критик считал унизительным и оскорбительным для себя. Брань по адресу Достоевского, придирки к «эстетике» были своего рода конспирацией; за позой неприятия скрывалась мучительная зависимость от мира «совершенно безумных персонажей» и от их автора.
Но непрекращающиеся штурмы одной и той же крепости лишь удостоверяли факт существования самой крепости и служили подтверждением ее неприступности. Так что обличительный пафос Набокова обретал эффект бумеранга: настороженное внимание читателя с бранимого Достоевского переключалось на бранящего Набокова. Тут-то и выскакивал ненавистный Набокову и всю жизнь преследовавший его каверзный вопрос о «влияниях».
Странно и необъяснимо здесь только одно: Набоков, блистательный мастер, олимпиец, небожитель, не имевший соперников по уникальности дарования, абсолютно не выносил каких бы то ни было литературных параллелей, связанных с собой. Ему легче было выказать себя несведущим, чем сознаться в «предосудительной» связи. В сущности, он считал оскорбительным для себя любое подозрение в сходстве — поиски тех, кто мог бы повлиять (или повлиял) на него, задевали достоинство, принижали, как ему казалось, его авторскую оригинальность. Вот типичная реакция Набокова на вопросы о возможных литературных воздействиях:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: