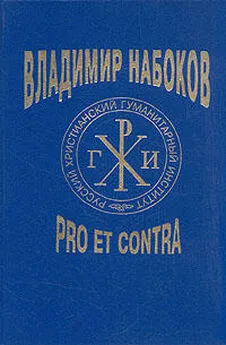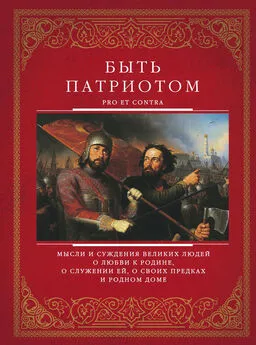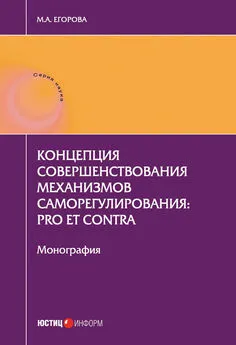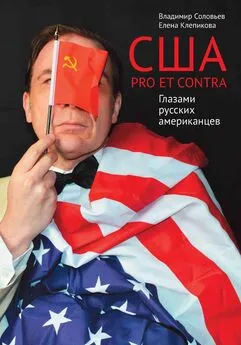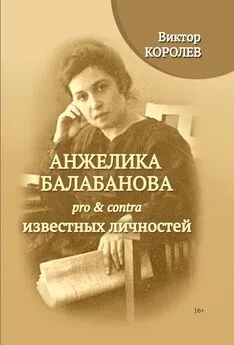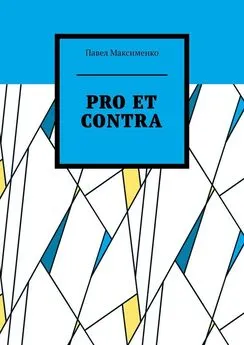Борис Аверин - Владимир Набоков: pro et contra
- Название:Владимир Набоков: pro et contra
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Русский Христианский Гуманитарный Институт
- Год:1999
- ISBN:5-88812-058-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Аверин - Владимир Набоков: pro et contra краткое содержание
В первый том двухтомника «В. В. Набоков: pro et contra» вошли избранные тексты В. Набокова, статьи эмигрантских критиков и исследования современных специалистов, которые могут быть полезны и интересны как для изучающих творчество В. Набокова, так и широкого круга читателей.
Владимир Набоков: pro et contra - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В рассказе есть аллюзия на известную строку А. С. Пушкина: «…и равнодушная природа красою вечною сиять». Описания природы, преимущественно неба и небесных явлений, встречающиеся в рассказе, подтверждают эту мысль Пушкина. В сумерки того дня, когда Граф ощутил ужас при воспоминании о пророческом сне, «небо выстлано было розовыми облаками, и только на западе, в провале между охрой тронутых домов, протянулась яркая, нежная полоса» (II, 385). Чуть позже Граф увидел, как «под длинной пепельной тучей низко, далеко и очень медленно проплывал, тоже пепельный, тоже продолговатый, воздушный корабль» (II, 387). Созерцание этого воздушного корабля, не имеющего никакого касательства к Графу, тем не менее переполняет его душу до такой степени, что ему кажется, что он вот-вот умрет и «…вокруг некролога будет сиять равнодушная газетная природа, — лопухи фельетонов, хвощи хроники» (II, 387). Майская гроза, приключившаяся через год, незадолго до рокового дня, явилась своего рода кульминацией, приведшей к перелому в мироощущении Графа. И наконец, ясное июньское утро после дня рождения вызывает в нем ощущение того, что он чего-то не понял и не додумал, но не в силах восстановить это — «теперь уже поздно, и началась другая жизнь» (II, 393). Автор проводит четкую границу между явлениями природы и переживаниями своего героя. Они существуют независимо друг от друга. Природа ничего не желает знать о человеке, она следует своим, одной ей ведомым законам. Начало и конец рассказа образуют замкнутый круг: в них говорится о смерти воспоминания от «слишком быстрого перехода в резкий свет настоящего» (II, 383–384). Автор снимает с воспоминания, предопределяющего человеческую судьбу, его таинственный смысл. «Чем больше уделять внимания совпадениям, тем чаще они происходят», — замечает он (II, 390). Игру случая он называет логикой судьбы, отмечая при этом, что «транспарант ее (судьбы. — Н. Т.) постоянно просвечивает сквозь почерк жизни» (II, 390) [443].
© Наталья Артеменко-Толстая, 1997.
Леонид ГЕЛЛЕР
Художник в зоне мрака: «Bend Sinister» Набокова {345}
Роман Набокова под непереводимым названием «Bend Sinister» до сих пор оставался почти исключительно в ведении специалистов по англо-саксонской литературе. Цель этого доклада — ввести роман в обиход русистики, наметив опорные точки для предстоящего подробного изучения в новом контексте.
Набоков говорит о «Bend Sinister» как о своем первом американском романе [444](по-русски он называет его «Под знаком незаконнорожденных»), и хотя в книге уже можно найти следы американского опыта, материал ее еще европейский — она как бы завершает цикл тех довоенных произведений, в которых писатель дал свой диагноз болезни века, тоталитарному мышлению и политическому устройству [445]. Вкратце напомню сюжетную основу книги.
Действие происходит в вымышленной стране, бывшей монархии и кратковременной республике, где в результате бескровного переворота к власти приходит эгалитаристская партия. Герой романа Адам Круг, философ с мировым именем, потрясенный личным горем — после неудачной операции умирает его жена, — с рассеянностью наблюдает за тем, как лидер партии Среднего Человека, его бывший школьный враг Падук, превращается в диктатора, а страна — в тоталитарное государство, ведущее террор против всех, кто может представлять опасность для нового порядка. Круг думает, что слава и талант делают его неуязвимым, и не отвечает ни на угрозы, ни на заигрывания диктатуры, которая пытается привлечь его на свою сторону. Но когда с целью шантажа берут в заложники, а затем — по роковой ошибке — убивают его единственного сына, философ восстает против диктатора — и погибает от пуль охранников.
С сюжетной простотой романа контрастируют стилистические изыски, интеллектуальная осложненность, вторжение гротеска, использование техники, которую англо-саксонские критики называют «ostentatious» или «self-conscious artifice» («обнажение приема» по терминологии русских формалистов). Автор постоянно дает сигналы о своем присутствии. Финал книги напоминает финал «Приглашения на казнь»: там в момент казни героя окружающая его враждебная реальность распадается, остается лишь он сам, идущий навстречу подобным себе существам; здесь в момент гибели героя растворяется весь мир, в котором он жил, и мы видим писателя в своем кабинете — демиурга, на наших глазах создавшего мнимую, эфемерную жизнь. Но в окно писателя стучится бабочка, выпорхнувшая из придуманного им мира (душа героини?), а лужица воды, которую дождь оставил в его дворе, все время возникала и перед глазами его героя.
Сложность письма, подчеркивание иллюзорности романного вымысла пугают и путают комментаторов, загипнотизированных заявлениями писателя о независимости от жизни «настоящего искусства» и, в первую очередь, его собственных творений. Критики страхуют себя цитатами из набоковских статей: «Читая „Bend Sinister“, необходимо помнить, что автор назвал бы „тематическим мусором“ книгу об угнетении человеческого духа глупой и жестокой властью» [446]. Воздействие гипноза усиливается, когда в моду входят теории текста как самодостаточного высказывания, не отсылающего к внешнему референту, а затем теории, предлагающие заняться «деконструкцией» текста. Несмотря на их последствия — исчезновение из текста автора-субъекта (с чем Набоков вряд ли был бы согласен), — казалось, что эти теории как нельзя лучше соответствуют набоковской манере письма, которую стали воспринимать как чистую эстетическую игру.
При таком подходе «Bend Sinister», так же, как «Приглашение на казнь», становится либо иносказанием о муках творчества [447]и о заточенном в тюрьме реальности сознания [448], либо формальной шуткой и подобием шахматной задачи [449]. Вездесущий гротеск и двусмысленность авторской позиции как будто оправдывают такой взгляд. Один комментатор говорит: «Подчеркивание иллюзорности не позволяет нам идентифицироваться с Адамом Кругом и его миром; мы не видим никакого перехода между этим „вымышленным габитусом“ и нашей действительностью» [450]. Другой утверждает: «Если писатель, воспринимающий мир, подобно Оруэллу, только в политическом ракурсе, повел бы нас от ужаса к истерии, то Набоков отказывается принять всерьез Падука и его лакеев» [451].
У подобных толкований есть алиби — предисловие, которое Набоков предпослал переизданию «Bend Sinister», спустя 16 лет после написания романа и почти 30 лет назад. Там он отрицает какое-либо сходство своей книги с антиутопией Оруэлла и утверждает, что она не рассказывает «о жизни и смерти в гротескном полицейском государстве» (6–7).
Любопытно признание критика, усмотревшего в романе параболу об уязвимости в тоталитарном мире тех, кто эмоционально связан, у кого есть близкие — как сын у Круга, — ибо у них есть «ручка» (наподобие ручки у сосуда), с помощью которой власть может ими манипулировать. Свою статью критик заканчивает словами: «Набоков — величайший из ныне живущих наших писателей, (но) у него самого, как кажется, такой ручки совсем нет, нет даже призрачного обшлага, за который мы могли бы поймать его хотя бы на один миг» [452].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: