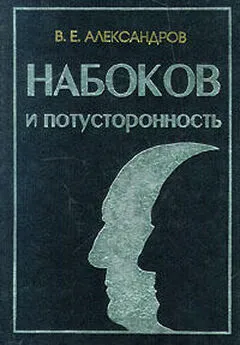В. Александров - Набоков и потусторонность
- Название:Набоков и потусторонность
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Алтейя
- Год:1999
- Город:СПб.
- ISBN:5-89329-167-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
В. Александров - Набоков и потусторонность краткое содержание
В. Е. Александров — профессор русской литературы и заведующий отделом славянских литератур Йельского университета, один из самых известных исследователей творчества В. Набокова. В книге В. Е. Александрова миросозерцание В. Набокова раскрывается благодаря детальному анализу поэтики русско- и англоязычной прозы писателя.
Книга адресована как студентам, преподавателям и исследователям творчества В. Набокова, так и широкому кругу читателей.
Набоков и потусторонность - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Другие соображения, высказанные Набоковым, указывают на то, что этические вопросы были для него важны — и как для писателя, и как для человека. В одном из писем к матери, относящемся к 1924 году, он говорил, что «пришел к весьма свежему заключению, что достаточно совершить хотя бы один хороший поступок в день (скажем, просто уступить пожилому человеку место в трамвае), как жизнь становится намного приятнее. В конечном итоге все в этом мире очень просто и держится на двух-трех не слишком сложных истинах». {110} 110 Цит. по: Field. Nabokov: His Life in Part. P. 181.
На первой же странице «Твердых мнений» (задавая таким образом тон всему сборнику) Набоков утверждает прежде всего свою полную независимость от любых коллективных акций, а затем указывает на свое отвращение к «глупости, угнетению, преступлению, жестокости, легкой музыке» (CII, 578).
Последний пункт этого краткого перечня может показаться простым эпатажем; но по существу он перекликается со знаменитыми, развернутыми и уничижительными, набоковскими определениями «пошлости», наносящей столь тяжелый ущерб современной (как, впрочем, и прошлой) культуре. {111} 111 P. 100–101. Первое и самое известное описание «пошлости» дано в книге о Гоголе.
По самым разнообразным поводам Набоков высказал нескрываемое отвращение к тиранам — Ленину, Сталину и Гитлеру. В связи с пресловутым американским преступником Чарлзом Мэнсоном, Набоков говорил, что «любопытно было бы увидеть в глазах этого полного монстра и его жутких полоумных девиц хоть искорку раскаяния». {112} 112 Levy. P. 29.
Но в оценки людей, чья известность не носила скандального характера по преимуществу, Набоков также вносит этические моменты. Так, например, он говорил о «судьбах» Оскара Уайльда и Льюиса Кэрролла: «Один выставлял напоказ свою пламенную извращенность и был уличен, другой — прятал свою скромную, но куда более зловещую маленькую тайну». {113} 113 Nabokov V. Strong Opinions. P. 119.
Это утверждение особенно красноречиво, ибо явное осуждение педофилии совпадает с широко распространенной убежденностью в том, что растление малолетних занимает в иерархии пороков особенно высокое место.
Известные нападки Набокова на Фрейда, которые начались еще в 1931 году, а пика своего достигли в интервью и предисловиях к английским переводам его романов, все еще, на удивление, воспринимаются многими как особо изощренная игра либо как неохотное и нечаянное признание сложной зависимости от «венского шарлатана» (то есть Набоков «слишком уж рьяно протестует»). {114} 114 Об издевательских замечаниях Набокова по адресу Фрейда еще в 1931 году см.: Grayson. P. 116. Поклонники Фрейда явно не желали просто примириться с набоковским отношением к Учителю. Об этом сказано в одной книге: «Похоже, Набокову нужно было специально сотворить Фрейда» — Green. P. 78.
На деле же здесь имеет место бесспорное отталкивание, проистекающее из презрения к поверхностным обобщениям, которые к тому же не имеют ничего общего с его личным опытом. Следует также подчеркнуть, что декларируемое отвращение к Фрейду и психоанализу не столько идет от высокомерия или педантического стремления к точности, сколько базируется на моральных основаниях. В одном интервью Набоков говорил, что «фрейдистская вера порождает опасные этические последствия, как если бы гнусному убийце с мозгами ленточного червя выносили более мягкий приговор на том основании, что мать в детстве либо слишком сильно, либо слишком слабо его наказывала — возможны оба варианта». {115} 115 Nabokov V. Strong Opinions. P. 116.
Таким образом, этические взгляды Набокова, во всех своих многообразных проявлениях, совсем не так уж эксцентричны, напротив, не выходят за рамки привычных для западных демократий представлений, хотя, конечно, опираются на сугубо личное миропредставление самого писателя.
Что искусство в сознании Набокова было неотделимо от этики, ясно видно из всех его художественных произведений, а также из ряда высказываний — например, о Маяковском: хоть и «наделенный ярким талантом и острым пером, он был роковым образом развращен режимом, которому верно служил». {116} 116 Nabokov V. Poems and Problems. P. 133.
Но почему, собственно, мораль должна быть связана с эстетикой и метафизикой? Яснее ясного отвечает на этот вопрос Набоков в лекции «Искусство литературы и здравый смысл». Полностью отрицательному понятию «здравый смысл», воплощающему серость, пресность, тривиальность, Набоков противопоставляет все необычайное, эксцентрическое, иррациональное. «Здравый смысл» может быть побежден любым, «у кого достанет гордости не повторять общие места». Не исключено, рассуждает Набоков, что истинной движущей силой человеческой эволюции является не что иное, как отклонение от нормы: «обезьяна, возможно, никогда бы не стала человеком, не появись в семействе урод» (66). Ну а писатель превозмогает здравый смысл, следуя «тайным связям» между фигурами речи и, напротив, избегая приятных, общеобязательных литературных рецептов, использование которых неизбежно выхолащивает твою работу. Знаменательное высказывание о том, что получается, если следуешь зову собственного воображения, звучит так: «…иррациональная вера в присущее человеку „хорошее“ (которой столь внушительно противостоят фарсовые, обманчивые явления, именуемые фактами) становится чем-то большим, нежели шатким основанием идеалистических философских теорий. Она становится веской, переливающей всеми цветами истиной» (66). Таким образом, набоковская этика не релятивна, но абсолютна и тесно связана с его концепцией художественного воображения.
Удивительно, что веру в природную доброту защищает человек, прошедший сквозь самые немыслимые ужасы XX века. Набокову с семьей пришлось бежать от большевиков в России, его отец стал жертвой политического убийства в Берлине, один из братьев погиб в нацистском лагере, и та же судьба могла постигнуть Набокова и его жену-еврейку, ведь они оставались в Германии до 1937 года. Повторно читая лекцию «Искусство литературы и здравый смысл» в 1951 году, Набоков говорил, что многим вполне может показаться, «мягко говоря, нелогично рукоплескать превосходству „хорошего“, когда нечто, именуемое полицейским государством или коммунизмом, пытается превратить весь земной шар в пять миллионов квадратных миль террора, глупости и колючей проволоки» (66) (то же самое говорилось и в оригинальной версии 1941 года). И тем не менее он настаивал, что даже это не может поколебать его веры. Теперешние ужасы кажутся ему «ирреальными», не потому что физически теперь он от них далеко и покойно проживает в Соединенных Штатах, «но потому, что я не могу представить себе такие обстоятельства (а это уже очень много), которые могли бы посягнуть на этот прелестный и приятный мир, продолжающий себе тихонько существовать; и в то же время я легко представляю, как мои собратья-мечтатели, тысячами странствующие по свету, придерживаются тех же самых иррациональных и священных принципов в мрачнейшие и ослепительнейшие часы физической опасности, боли, распада и смерти» (67).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: