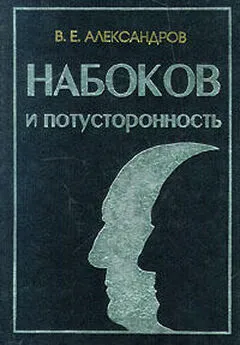В. Александров - Набоков и потусторонность
- Название:Набоков и потусторонность
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Алтейя
- Год:1999
- Город:СПб.
- ISBN:5-89329-167-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
В. Александров - Набоков и потусторонность краткое содержание
В. Е. Александров — профессор русской литературы и заведующий отделом славянских литератур Йельского университета, один из самых известных исследователей творчества В. Набокова. В книге В. Е. Александрова миросозерцание В. Набокова раскрывается благодаря детальному анализу поэтики русско- и англоязычной прозы писателя.
Книга адресована как студентам, преподавателям и исследователям творчества В. Набокова, так и широкому кругу читателей.
Набоков и потусторонность - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Есть одна крупная контекстуальная категория, которая особенно важна для верного понимания Набокова. Это литературные аллюзии. Его книги изобилуют отсылками, в том числе и пародийными, к произведениям русской и европейской литературы, а также к иным культурным «памятникам». Все это можно рассматривать как часть его общего лексикона, и в этом качестве нуждается в тщательном анализе, если ставить перед собой задачу исчерпывающего исследования его творчества. Но для этого потребовалась бы более пространная работа. Сосредотачиваясь на комплексе метафизических, этических и эстетических проблем, я и на литературные аллюзии смотрю через эту призму. Ясно, что Набоков, созидая свой художественный мир, не просто вставлял «цитаты» из других произведений, они есть неотъемлемая часть его собственных тем и стилистики. Так что намного проще рассматривать специфические парадигмы набоковского искусства, как бы отвлекаясь временно от специального обращения к многочисленным аллюзиям, разбросанным по его книгам. Разумеется, я не утверждаю, будто оригинальная набоковская эстетика или философия абсолютно подавляют его склонность к аллюзиям. То и другое слишком тесно переплетено, чтобы подобное суждение было хоть сколько-нибудь основательным. Однако же мой подход может найти оправдание в том, что «интертекстуальный» анализ подкрепляет чисто металитературный взгляд на Набокова. Подход же контекстуальный, вопреки мнению некоторых исследователей, позволяет увидеть, что набоковские герои (точно так же, как и сюжеты, ситуации, повествовательные приемы) отнюдь не являют собой вереницу коллажей, собранных по кусочкам, заимствованным у других писателей. Я разделяю точку зрения Э. Пайфер, что романы Набокова, при всей своей уникальности, воплощают правдоподобные и волнующие модели человеческого поведения и «непреходящие гуманистические ценности». {27} 27 Pifer. Nabokov and the Novel. P. 171.
Как показывает рассмотрение его художественного творчества в контексте небеллетристических произведений, Набоков неизменно обращался в своих романах и рассказах к проблемам, которые не давали ему покоя на протяжении всей жизни (тем самым я вовсе не хочу сказать, что его проза элементарно автобиографична). {28} 28 См.: Tammi. P. 232–235. Автор дает довольно полный обзор автобиографических соответствий в прозе Набокова. См. также Grayson. P. 166.
И даже если согласиться, что интересы Набокова частично выросли из его читательского опыта, все равно сохраняется огромная разница между убежденностью в том, что в своих книгах он рассматривал проблемы, неотделимые от собственных его жизненных переживаний, и утверждением, будто он исключал любую жизненную практику из своего творчества, стремясь к созданию внечеловеческих рефлексивно-эстетических конструктов.
Каждое новое обращение к Набокову неизбежно предполагает постановку двух важнейших вопросов, имеющих отношение к его критическому наследию. Почему столь многие и так долго проходили мимо наиболее существенного в нем? И нет ли чего-либо такого в его романах и других художественных произведениях, что объясняло бы такую близорукость?
Одна из двух существенных граней его искусства, где входят в прямое столкновение металитературный и «потусторонний» подходы, это текстуальные узоры и моделирование. {29} 29 Сопредельные проблемы рассматриваются в статье: Rabinowitz. Р. 252. Превосходный обзор метафизики узоров у Набокова представлен в работе: De Jonge.
Одни и те же «совпадения» смысла и детали в произведении могут быть прочитаны двумя разными способами — либо как литературная модель судьбы, либо как авторское указание на искусственную природу текста. Сошлюсь в качестве примера на Гумберта. То обстоятельство, что читая справочник «Кто есть кто на сцене» (CII, 43), он обнаруживает в нем ссылки на Куильти и Лолиту (а также на произнесенные ей как-то слова), может быть понято либо как фатальное совпадение, либо как саморазоблачение Набокова, выступающего в роли кукловода. В последнем случае неизбежно предполагается, что подобного рода совпадения, щедро рассыпанные по набоковским книгам, в «настоящей жизни» случиться просто не могут и, следовательно, настаивая на них, автор отказывается от всякого правдоподобия. Другая грань набоковского искусства, которая тоже порождает конфликт двух типов прочтения, — это его романтическая ирония — характерный для этого писателя прием авторского проникновения в текст, либо прямого (как в финале романа «Под знаком незаконнорожденных»), либо анаграмматического, под маской, допустим, «Вивиан Дамор-Блока» в «Лолите» все в том же справочнике «Кто есть кто…», да и в других случаях. {30} 30 P. Tammi (см. Р. 320–341) тщательно анализирует этот прием на примере целого ряда романов Набокова.
Именно в связи с этими двумя особенностями прочтение набоковской прозы в контексте его нехудожественных сочинений становится особенно поучительным.
В книге мемуаров «Память, говори» (русский вариант — «Другие берега») много рассуждений о том, как автор находил в своей жизни, да и в жизни предков определенный рисунок; далее, подобно положительным героям романов, Набоков ясно дает понять, что в самой его жизни есть явные знаки потустороннего (ложные модели или совпадения, улавливаемые отрицательными персонажами вроде Германа из «Отчаяния», — совсем другое дело; это по сути солипсистские упражнения, а вовсе не прорывы в сторону высшей реальности. Задача читателя «Отчаяния» состоит в том, чтобы отделить заблуждения Германа от узоров, скрыто созданных всемогущим, как Бог, автором). Но критические соображения и намеки, разбросанные в набоковских дискурсивных писаниях, ведут еще дальше. В целом ряде интервью, а также в автобиографии Набоков утверждает, что весь природный мир полон узоров, а это предполагает участие высшего сознания: от мимикрии насекомых до «ходких приманок размножения» — все есть продукт искусной и, настаивает Набоков, неутилитарной и хитроумной деятельности мастера. {31} 31 Nabokov V. Strong Opinions. P. 11. Данному вопросу уделено значительное внимание в работе Shloss'a.
Иными словами, из нехудожественных произведений Набокова видно, что он полностью переосмысливает понятия «естественного» и «искусственного», делая их по существу синонимами. Если и можно выделить какую-то одну идею, могущую быть «ключом» к Набокову, то вот она. В свете этого критического переосмысления набоковские текстуальные узоры и вторжения в ход вымышленных событий аналогичны формирующей роли потусторонности по отношению к человеку и природе: металитературность — это маска и модель метафизики. Ярким образцом неприятия даже самой возможности такого подхода может служить исследование Ю. Бадер, которая, обращаясь к рассуждениям повествователя романа «Подлинная жизнь Себастьяна Найта» по поводу природы посмертной жизни, предлагает заменить в них слово «потусторонность» словом «искусство» («потусторонность — в английском оригинале hereafter — и состоит в способности сознательно жить в любой облюбованной тобою душе — в любом количестве душ» (CI, 191)). Понятно, что в эпоху «современной литературы» та разновидность интуитивной веры в потусторонность, которую воплощает в своих писаниях Набоков, воспринималась как дань старой моде и потому была отвергнута многими исследователями как нечто совершенно неприемлемое. Другой критик читает Набокова в терминах откровенной, заранее данной оппозиции «реального» и «вымышленного», каковая опрокидывает набоковскую концепцию естественности и искусственности. Говоря о тех романах Набокова, которые кажутся ему наименее удавшимися, Р. Алтер приходит к заключению, что «созданный (в них. — В. А. ) художественный мир, при всей своей изощренности, лишен той живости, которая придает необходимую энергию диалектике вымышленного и „реального“: игровое противостояние двух онтологических систем не может увлечь нас по-настоящему, когда один из соперников, а именно воображаемый мир, слишком часто уподобляется просто интеллектуальной игре». {32} 32 Bader. P. 14–15; Alter. Partial Magic. P. 182.
Но позиция Набокова самым очевидным образом состоит именно в том, что так называемый естественный мир предстает «изобретением» какого-то высшего разума.
Интервал:
Закладка: