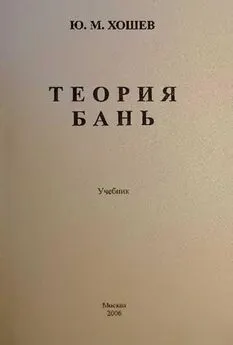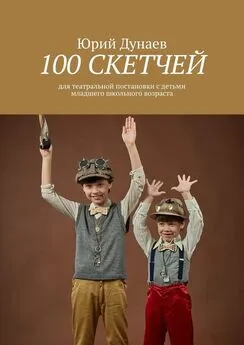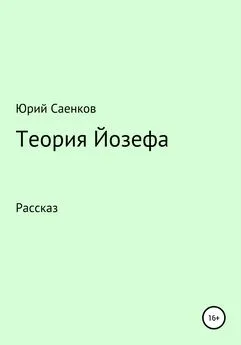Юрий Барбой - К теории театра
- Название:К теории театра
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Санкт-Петербургская академия театрального искусства
- Год:2008
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-88689-048-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юрий Барбой - К теории театра краткое содержание
Это исследование — первая за долгое время попытка предложить для обсуждения целостную теоретическую концепцию театрального искусства, каким оно предстало, с одной стороны, в свете открытий режиссуры 20 века и, с другой, в контексте рожденных этим веком паратеатральных форм и соответствующих им идей.
Если соображения автора вызовут дискуссию, это, по его мнению, будет только полезно: поскольку книга адресована театроведам, режиссерам, актерам и другим людям, для которых собственная позиция по фундаментальным вопросам театра не роскошь, а профессиональная необходимость, режим диалога может помочь выработать такую позицию или утвердиться в своей.
К теории театра - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Сходства между социологическими, философическими и психологическими содержаниями пьесы, с одной стороны, и спектакля, с другой — не пустые аналогии, но все-таки тут именно подобия, а не одно в разных обличьях, и сопоставляться или сталкиваться в спектакле могут разные величины. Все это означает, что содержание спектакля не в декларациях, а в действительности многомерно и потому вынужденно должно описываться несколькими характеристиками. Одно и то же содержание, во-первых, тем или иным образом сложено, то есть является либо конфликтом, либо сопоставлением складывающих его сил; во-вторых, целиком или по преимуществу ориентировано на какую-то — психологическую ли, в узком смысле социальную или философскую — область предмета, которому подражает; в-третьих, отличается типом тех сил, которые образуют действие. Важно, Герои это или люди, судьба или общество, но самым острым критерием для третьей обсуждаемой нами типологии содержаний спектакля сегодня оказывается вопрос о том, есть ли среди сил действия театральные актеры.
Отметим сразу же, и не только справедливости ради, что когда мы вводим в анализ последний из упомянутых признаков — наличие или отсутствие среди творцов содержания сил самого театра — типологию может тайком подменить иерархия: «сценические» содержания исторически моложе, и век их рождения вместе с их ролью в стадиальной эволюции театра в самом деле могут ввести в соблазн — состав участников действия, в котором актеры не автономны по отношению к ролям, объявить старомодным. Это во всех отношениях бессмысленно. Во-первых, «престижная» характеристика вполне нехудожественна, во-вторых же и в-главных, еще никто не доказал, что когда не только в структурной, но и в содержательной области театр актера в эпоху Возрождения пришел на смену театру поэта-драматурга, старик протянул ноги, а если и выжил, то уж режиссерский-то Молох точно проглотил обоих предшественников. Мягко говоря, это проблематично. Иное дело, что именно после появления такого позднего варианта мы и вправе и обязаны утверждать, что содержанием спектакля все больше и ясней становятся противоречия в ролевой сфере.
Тем более опасно сбиваться на престижные характеристики. Спектакль, содержание которого состоит из мелодии, данной пьесой, и аккомпанемента, предоставленного сценой, — не просто реальность, в частности, современного театра, но и законное его детище. Здесь на новом уровне возникает та же трудность, что подстерегала нас, когда мы сопоставляли театральный предмет и прозаическую структуру спектакля. Но если там мы готовы были определенно сказать, что предмет, хоть и по-разному, но в одной и той же мере откликается в обоих типах структуры, с содержанием дело обстоит, по-видимому, сложней: именно в этой сфере становится актуальной та самая дихотомия, что обозначилась в театральном предмете на стадии, когда, казалось, он вполне определился как ролевой. Ветвь театральности, напоминающая о старом, доролевом этапе развития предмета, осторожно не мешая эволюции структур, гораздо более властно откликнулась содержанием: художественное исследование на сцене нетеатральных противоречий стало и этим откликом и одновременно надежным свидетельством тому, что театральный предмет не так однороден, как мог бы представляться в середине девятнадцатого века. А еще это, можно бы сказать, запасной ответ на вопросы, которые перед театром поставил кризис драматизма и театральности в конце Х1Х — начале ХХ веков.
У проблемы, связанной с силами спектакля, которые входят или не входят между собой и с силами пьесы в содержательные связи, есть еще один, не менее важный, чем иные, срез. Ориентацией этих сил, с одной стороны, на литературу, а с другой, на сцену, дело не исчерпывается, как только мы обязываемся говорить обо всем театре, а не только о драматическом, на материал которого опирались в этой главе. Иначе говоря, тут есть еще некий «видовой сюжет».
Мы настаивали на том, что, начиная примерно с эпохи Возрождения, актер стал играть не маску Героя и не абстракцию, а живой человеческий характер. Но человек стал ролью для актера именно в драматическом спектакле. В оперном, а затем в балетном, по мере того, как эти театры самоопределялись как музыкальные, актер как раз уходил от роли человека. Чем тверже в этих театрах на место словесной пьесы, которая и была главным поставщиком ролей человека, становилась музыка, тем ясней актер был принужден — снова неважно, осознанно это происходило или нет — роль свою извлекать из содержания музыки. А ядро этого содержания — не характер человека, вообще не человек, а все, что есть в человеческой душе, и главное, как бы огрубленно это ни выглядело, — человеческое чувство. Нельзя играть чувство — справедливо предостерегал Станиславский драматических артистов. Оперных и балетных следовало предостеречь от искушения сделать своей ролью человека.
Позднее такая же ситуация сложилась и в театре пантомимы, когда он стал театром. В так называемом драматическом спектакле актер не в состоянии сыграть не только роль чувства, но и, например, роль вещи — только человека, не принудительно ассоциирующегося с вещью. В балетном спектакле этого тоже сделать нельзя. Зато можно в спектакле, который черпает материал для своих ролей в изобразительных искусствах, — пантомимическом. По-видимому, нет нужды доказывать, что содержание такой части системы, как роль, является не частью содержания, а одной из сторон его объема.
Еще более очевидно обогащается представление о содержании как принципиальном объеме, еще богаче набор типологий, когда в рассмотрение включаются фундаментальные характеристики, связанных на этот раз с другой инвариантной частью системы спектакля, актером: содержание самым безжалостным образом зависит от того, кто именно — живой человек, кукла или тень — играет роль человека, чувства или вещи.
Ясно, что вопрос о собственном, автономном или суверенном содержании действующих в спектакле сил имеет особое значение. Как бы мы ни дифференцировали содержание спектакля в целом, сколько бы сторон (и, соответственно, типологий) этого объема ни улавливали, все они в совокупности недостаточны. Потому что собственным содержанием обладает не только целое спектакля, но и части его системы. С содержательной точки зрения актеров не только можно, но и должно типологизировать: живой человек на сцене, кукла и тень — это в первую очередь бесспорные и разные содержания. Притом именно разные драматические содержания: кукла не просто «выглядит» не как человек, она и действовать не может так, как человек — просто потому, что она кукла, и когда она действует как человек или когда человек действует как кукла, это немедленно и едва ли автоматически становится особым, острым и снова глубоко содержательным действием. Не потеряло, разумеется, значения и классическое, в русском варианте восходящее к К.С. Станиславскому выделение группы актеров, которые, в отличие от иных, действуют на сцене по принципу «перевоплощение на основе переживания», как сформулировал это А.Д. Попов [75]. Очевидно, что есть и другие принципы. Отметим сразу же, что критерии такого типа характеризуют вовсе не одну лишь психологию творчества, они ясно актуализируются в сценическом действии: роль, в которую условно перевоплотился актер, и роль, показанная как бы со стороны, сами оказываются разными11.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: