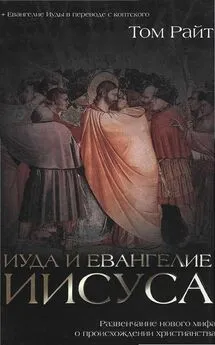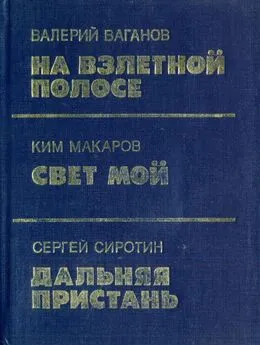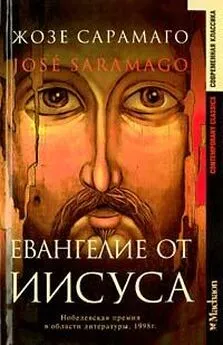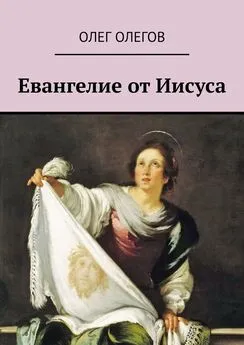Сергей Сиротин - Евангелие от Иисуса: Сарамаго в стане еретиков
- Название:Евангелие от Иисуса: Сарамаго в стане еретиков
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2010
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Сиротин - Евангелие от Иисуса: Сарамаго в стане еретиков краткое содержание
Евангелие от Иисуса: Сарамаго в стане еретиков - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
То, что Иисус начинает требовать от своих учеников веры, значительно усложняет понимание его образа в и без того довольно сбивчивом пространстве мысли Сарамаго. В частности, требующий веры Иисус находится бесконечно далеко от того Иисуса, каким видел его Ницше — учителя блаженной жизни, чье учение было извращено евангелистами, придумавшими веру как заменитель блаженства. Для Кьеркегора понятие веры, наоборот, фундаментально, что, впрочем, не мешает ему постоянно избегать формализации и ускользать на территорию чистой экзистенции. Вероятней всего, Сарамаго видел эту проблему проще и вообще не стремился заострять на ней внимание. В конце концов, Иисус ждет лишь веры в свои слова, но не веры в себя самого. Он ведом сознанием близящейся трагедии и хочет адаптировать для обычных людей ту парадоксальность Бога, которая ему открылась. Когда он призывает людей поверить ему, то открывает им укороченный путь к тому, к чему сам шел очень долго. При этом он видит, что этот неровный и петляющий путь не так привлекателен по сравнению с удобной дорогой, по которой ходят обыватели — дорогой неизменных и необсуждаемых истин о благости и праведном гневе Бога, о его воле и всевидящем оке. Если бы Иисус мог здесь заявить: “ Будущее покажет, что я был прав” — то он был бы навечно низвергнут до уровня какого-нибудь “ доцента” , заявляющего миру о чудной находке, как это видит Кьеркегор. Но этого не происходит. Призыв к вере — это скорее неуправляемое колебание тревоги, ширящейся в его душе, потому что он понимает, что дальше пойдет один. Не его удел быть примером, проводником правды. В этом отношении он бескорыстен. Он берет на себя огромную ответственность (“ я [в ответе] за двадцать миллионов” ) и, для того чтобы нести ее, создает Слово Божье. И Сарамаго говорит: все это уловки и самообман. Это не собственное желание Иисуса, а всего лишь лучший способ жизни под гнетом безумного Бога. По-настоящему его заботит другое: “ Кто бы снял с меня эту ношу, я ничего больше не хочу” .
Иными словами, Сарамаго не делает из Иисуса ни человеческого, ни божественного идеала, считая его влияние на человечество следствием предубеждения, внушенного лживым Богом. Кьеркегор, наоборот, осуществляет предельную идеализацию фигуры Христа, причем делает это за пределами умозрительного. Во “Введении в христианство” он дает высказаться разным людям относительно его личности, но, выслушав их, тотчас же демонстрирует, что каждое их суждение не состоятельно. По сути, это апофатическое движение, однако оно не лишено моментов позитивного познания. У Кьеркегора, помимо чисто философских достижений, важно другое — большая поэтичность его построений. Как позже Ницше и Юнг, он постоянно говорит о скудости и слабости языковых средств для выражения невыразимого. В его случае это просто скромность. Его поэтичность постоянно пристыжает сухость рациональных построений и демонстративно обходит их своим доверием. Сначала она разрушает понятия, сознавая их никчемность, потом снова находит их в остатке, осевшем из потока образов на сети слов. Она кружит над невыразимым, и чем ближе она подходит к нему, тем сильнее читателя берет тоска от невозможности проникнуть в парадокс на правах человека, стоящего в абсолютном отношении к Богу. Кьеркегор, по собственному признанию, не имел веры, поэтому то, что он возбуждает такую тоску, и составляет то ослабление жизни христианина до искусства — процесс, в сущности, дьявольский. Сарамаго в подобном смысле находится с Дьяволом в более простых отношениях. Его игровая, часто несерьезная поэтичность живописует земное без оглядки на небо. Сарамаго не тяготится невыразимой красотой и в поисках ее не попадает к настоящему Дьяволу — который везде подстерегает человека у Кьеркегора. Дьявол Сарамаго — это продукт низменной иронии. Мало разделив Дьявола и Бога, Сарамаго снизил масштаб проблемы. Его мир стал жалким и потерял величие, он перестал быть трагичным, став больше мишенью для насмешек, чем той средой сопротивления, через которую пробивают себе дорогу высокие идеалы.
в) Дева Мария и Мария Магдалина
Если Сарамаго не обожествляет самого Иисуса, то вполне понятно, что “вторые роли” христианского сюжета тем более будут лишены идеализации. Отчасти это так, но Сарамаго не смог пройти мимо темы Марии Магдалины, столь притягательной для современных еретиков. Он противопоставляет Магдалину матери Иисуса, и с этого, собственно, начинается роман. На гравюре, которую в начале книги рассматривает рассказчик, мать Иисуса изображена как “ самая что ни на есть первая по значению”, и “ вокруг ее головы сияет нимб более сложной и замысловатой формы” . Но Мария Магдалина писателю ближе и выглядит более живой, как бы побеждающей мертвую метафизическую святость: “ в глазах ее горит такая подлинная, такая пламенная любовь, что кажется, будто и все ее тело, все ее плотское естество окружено сияющим ореолом, рядом с которым тускнеет и блекнет нимб над ее головой” .
Мать Иисуса не может похвастаться какой-либо исключительностью: “ Что же касается дарований и талантов Марии, то при всем желании не удалось обнаружить ничего особенного у той, что и в замужестве осталась хрупкой шестнадцатилетней девочкой, каких во все времена, в любых краях приходится тринадцать на дюжину” . Она почти бессознательное существо: она “ не знала, как облечь в слова то, что мелькало у нее в голове”, она “ не поднимала глаз, и ее вообще словно не было тут” , она “ готова уйти из этого мира, с которым тончайшей нитью связывала ее лишь последняя ее мысль, мысль ни о чем, не облеченная ни в слова, ни в образ, и скорее даже не мысль, а просто ощущение того, что она думает — неведомо о чем и для чего” . У Сарамаго мало что осталось от той божественной чистоты, которая в традиционном представлении неразрывна с образом Девы Марии. Представление о непорочном зачатии писатель отвергает, кроме того, в книге у Марии есть и другие дети помимо Иисуса. В “Антихристианине” Ницше есть замечание: “ Мне стыдно вспомнить, что сделала церковь из этого символизма: не поставила ли она на пороге христианской “веры” <...> догму о “непорочном зачатии”?.. Но этим она опорочила зачатие...” У Ницше здесь все то же обвинение, которое он предъявляет любому догмату, любому правилу и любой изреченной истине. Как только интерпретация символа утрачивает характер “ опыта сердца” , он видит в этом “ всемирно-исторический цинизм в поругании символа”. У Сарамаго такого цинизма нет, поскольку нет и символа. Мария вообще изображена так, как будто в будущем ей ничего не уготовано. В ее подчеркнутой принадлежности к самой невзрачной части людского рода нет даже намека на легендарность. Мария — обычная женщина; вместе с ее смертью должна умереть и память о ней. И Сарамаго как будто показывает, что незаслуженно воссиявший образ Девы Марии — лишь доказательство санкционированной Богом прожорливости христианства. Зато Магдалина, как никто другой понявшая Иисуса и сумевшая его исцелить, изображена без оглядки на христианское толкование. Из статуса ницшевского “ материала для притчи” , какой является мать Иисуса, она выведена на уровень отношения кьеркегоровского “ рыцаря веры” к Богу, потому что достигает подлинного христианского идеала.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: