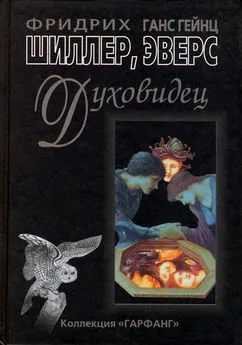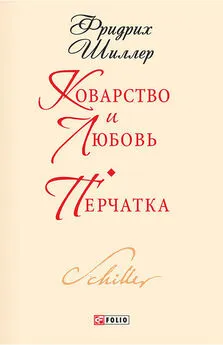Фридрих Шиллер - О наивной и сентиментальной поэзии
- Название:О наивной и сентиментальной поэзии
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Фридрих Шиллер - О наивной и сентиментальной поэзии краткое содержание
О наивной и сентиментальной поэзии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Если поэт противопоставляет природу искусству и идеал действительности так, что изображение первых преобладает и удовольствие по поводу этого становится господствующим переживанием, я называю такого поэта элегическим. В этом роде, как и в сатире, также различаются два вида. Природа и идеал могут быть предметом печали, если первая изображена утраченной, а второй недостижимым. Они могут быть и предметом радости — если представляются действительностью. Первое создает элегию в более узком, второе — идиллию в более широком смысле [13].
Так же как негодование в патетической и насмешка в шутливой сатире, печаль в элегии может проистекать лишь из воодушевления, пробужденного идеалом. Лишь отсюда получает элегия свое поэтическое содержание, и всякий другой его источник совершенно не достоин поэтического искусства. Элегический поэт ищет природу — но в ее красоте, а не только в ее приятности; в ее согласии с идеалом, а не только в ее готовности отвечать потребностям. Грусть об утерянных радостях, об ушедшем из мира золотом веке, о покинувшем нас счастье молодых лет, о любви и так далее лишь в том случае могут стать материалом элегической поэзии, если эти состояния чувственной умиротворенности могут быть представлены так же, как предметы моральной гармонии. Я не могу поэтому считать в целом поэтическим произведением жалобные песни Овидия, прозвучавшие из его изгнания на берегах Понта Эвксинского, как ни трогательны они, как ни поэтичны в них отдельные места. В его боли слишком мало энергии, слишком мало духа и благородства. Эти жалобы исторгнуты потребностью, а не воодушевлением; правда, в них дышит не заурядная душа, но заурядное настроение благородного ума, подавленного судьбой. Вспоминая, что то, о чем он грустит, это Рим, и притом Рим Августа, мы прощаем сыну радости его тоску; но ведь и великолепный Рим со всеми его радостями, если ему не придать благородства силой воображения, это лишь конечная величина и, таким образом, недостойный объект для поэтического искусства, которое имеет право тосковать лишь по бесконечному, подымаясь над всем, что дает действительность.
Итак, содержанием поэтической жалобы может быть лишь внутренний, идеальный предмет, но ни в коем случае не внешний; если даже поэзия оплакивает утраченное в действительности, она должна сперва претворить его в идеальное. Поэтическое отношение к миру, собственно, и состоит в этом сведении ограниченного к бесконечному. Отсюда следует, что сам по себе внешний материал всегда безразличен, так как поэтическое искусство никогда не может использовать его таким, каким его находит, но придает ему поэтическое достоинство лишь тем, что само из него делает. Элегический поэт ищет природу, но как идею, и столь совершенную, какой она никогда не была, хотя он и оплакивал ее, как некогда существовавшее и, ныне утраченное. Когда Оссиан рассказывает нам о временах, которых уже нет, и о героях, которые уже исчезли, сила его воображения уже давно преобразовала эти картины, хранимые воспоминанием, в идеалы и этих героев в богов. Переживание определенных утрат расширилось до идеи всеобщей бренности, и взволнованный этим бард, преследуемый образом руин, заполняющих мир, воспаряет к небу, чтобы там, в круговороте солнца [14], найти чувственный образ непреходящего.
Сошлюсь без промедлений на новых поэтов, пишущих в элегическом роде. У Руссо, поэта и философа, лишь одно стремление: найти природу или же отомстить за нее искусству. В зависимости от того, на чем останавливается сейчас его чувство, мы видим его то элегически–растроганным, то одушевленным Ювеналовой сатирой, то, как, например, в «Юлии», восхищенным идиллическими просторами. Его сочинения бесспорно поэтичны по содержанию, потому что они говорят об идеале; Руссо лишь не умеет использовать это содержание так, как это делают поэты. Его серьезный характер никогда не позволяет ему снижаться до фривольности, но он же не позволяет ему и возвышаться до поэтической игры. Одержимый то страстью, то абстракциями, он редко — а может быть, и никогда — не доходит до эстетической свободы по отношению к материалу, которую поэт утверждает, приобщая к ней также своего читателя. По временам он находится во власти своей болезненной чувствительности, доводящей его до крайностей страдания; либо сила его мысли налагает оковы на его воображение и уничтожает прелесть картин строгостью понятий. У этого писателя мы находим необычайно высоко развитыми оба свойства, внутреннее взаимодействие и единение которых, собственно, и образует поэта; и ему недостает лишь того, чтобы они оказались в действительном единстве, чтобы самодеятельность больше проникала в чувство, а впечатлительность — в мысль. Потому и в идеале, который он выдвигает перед человечеством, слишком много размышления о его ограниченности и слишком мало — о его возможностях, и во всем более ощутима потребность в физическом покое, чем в моральном согласии. Страстная чувствительность Руссо виной тому, что он лишь бы поскорее избавиться от раздора в человечестве, предпочитает его возвратить к лишенному мысли состоянию первобытного равенства, чем увидеть эту рознь приведенной к духовной гармонии полностью осуществленного развития, предпочитает не давать искусству и зачинаться, лишь бы не ждать, пока оно дойдет до совершенства, — словом, его страстная чувствительность виной тому, что он готов умалить цель и принизить идеал, лишь бы поскорее, лишь бы вернее их достичь.
Из немецких поэтов того же рода я упомяну Галлера, Клейста и Клопштока. Их поэзия сентиментальна по своему характеру; не чувственной правдой, но идеями волнуют они нас, не тем, что они сами — природа, но тем, что умеют заставить нас глубоко любить природу. Отсюда не следует — и это верно для характеристики не только этих, но всех сентиментальных поэтов вообще, — чтобы это исключало для них возможность иногда волновать наше чувство своей наивной красотой: если б это не было так, они бы вовсе не были поэтами. Но характер, преобладающий в них и являющийся их особенностью, состоит не в том, что их душа может воспринимать нечто спокойно, просто и легко и так же передавать воспринятое. Созерцание невольно оттесняется у них фантазией, чувствительность оттесняется силой мысли, они замыкают свой взор и слух, чтобы не мешать мысленному погружению в себя. Душа не терпит какого бы то ни было впечатления без того, чтобы не заглядеться тут же собственной игрой и не выдвинуть, отделяя от себя посредством рефлексии, то, что есть в нем самом. Мы никогда не получаем таким образом самого предмета, но лишь то, что сделал из него рефлектирующий разум поэта; и даже в том случае, когда этим объектом является сам поэт, когда он хочет нам изобразить свои чувства, мы узнаем о его состоянии не непосредственно, не из первых рук, но из того, как оно отразилось в его душе, из того, что он сам об этом думал, глядя на себя самого, как зритель. Когда Галлер, опечаленный смертью своей жены (все знают эту прекрасную песнь), начинает так:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: