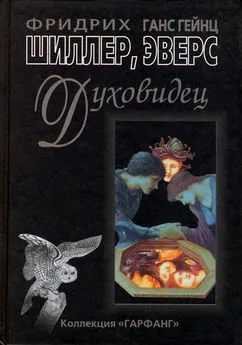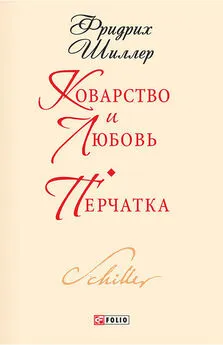Фридрих Шиллер - О наивной и сентиментальной поэзии
- Название:О наивной и сентиментальной поэзии
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Фридрих Шиллер - О наивной и сентиментальной поэзии краткое содержание
О наивной и сентиментальной поэзии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Много раз спорили, что выше — трагедия или комедия. Если бы при этом имели в виду лишь вопрос о том, чей объект значительнее, преимущество несомненно было бы на стороне первой; но если бы мы захотели выяснить, какой из двух родов требует более значительного субъекта, решение оказалось бы скорее в пользу последней. В трагедии очень многое совершается силой самого предмета; в комедии предмет не определяет ничего, поэт — все. Так как в суждениях вкуса материал никогда не принимается во внимание, то, разумеется, эстетическая ценность обоих этих родов искусства должна быть в обратной зависимости от значения их материала. Объект возвышает трагического поэта; наоборот, комический поэт должен поднимать материал до эстетического уровня силой своего субъекта. Первый имеет право на такие взлеты, которым многое чуждо; другой должен оставаться всегда равным себе, он должен, следовательно, всегда быть и чувствовать себя всегда как дома там, куда первый не может проникнуть без особенного повода. Это и есть то, что отличает прекрасный характер от возвышенного. Величие дано в прекрасном характере заранее, оно непринужденно и без усилий вытекает из его природы, он по самому своему существу бесконечен в каждой точке своего пути; характер же возвышенный может достигать любого величия посредством усилия, он может вырваться из любого состояния ограниченности силой своей воли. Он бывает свободен лишь порывами и с трудом, а тот свободен всегда и вполне легко.
Прекрасная задача комедии — зарождать и питать в нас такую душевную свободу, тогда как трагедия должна эстетическими средствами помочь восстановлению нашей душевной свободы, насильственно нарушенной аффектом. В трагедии, следовательно, душевная свобода должна нарушаться искусственно и в виде опыта, ибо ее восстановление является доказательством поэтической силы; в комедии же, напротив, надо всегда остерегаться, как бы не допустить нарушения душевной свободы. Поэтому трагик относится к своему предмету всегда практически, а комический поэт теоретически, если бы даже первый (как Лессинг в его «Натане») возымел причуду обработать теоретический, а второй — практический материал. Не область, из которой взят предмет, но суд, пред которым его ставит поэт, делает предмет трагическим или комическим. Трагик должен избегать спокойной рассудительности и всегда стараться заинтересовывать сердце; комик должен опасаться патетики и всегда занимать рассудок. Таким образом, первый обнаруживает свое искусство в постоянном возбуждении страстей, второй — в постоянном укрощении их; и искусство обоих, разумеется, тем более велико, чем больше предмет первого абстрактен по своей природе, а предмет второго тяготеет к патетическому [12]. Конечно, трагедия исходит из более важного начала, но, с другой стороны, надо признать, что комедия идет к более важной цели, и если бы она ее достигла, всякая трагедия стала бы излишней и невозможной. Цель комедии совпадает с высшим, за что приходится бороться человеку — с свободой от страстей, с стремлением быть всегда ясным, всегда спокойно взирать на окружающее и на себя самого, видеть везде скорее случайность, чем роковую судьбу, и скорее смеяться над нелепостями, чем проклинать или плакать.
Нередко случается, что в художественном изображении, так же как в действительной жизни, принимают простую легкость характера, приятный талант, веселое добродушие за признак прекрасной души, а так как заурядный вкус никогда не поднимается выше приятного, то таким милым существам легко узурпировать трудно добываемую славу. Но есть непогрешимый способ, с помощью которого можно отличить легковесность натуры от простоты и ясности идеала, добродетельность темперамента от подлинной нравственности характера; этот способ — испытать то и другое на объекте великом и трудном. В этом случае миловидный талант безошибочно перейдет в плоское, добродетель темперамента в материальное, — а подлинно прекрасная душа с той же уверенностью перейдет в возвышенную.
Пока Лукиан бичует лишь смешные нелепости, как в «Желаниях», «Лапифах», «Юпитере трагическом» и так далее, он остается насмешником и пленяет нас своим веселым юмором; но во многих местах своего «Нигрина», своего «Тимона», своего «Александра», там, где его сатира поражает моральную испорченность, он становится совсем другим человеком. «Злополучный! — так начинает он в своем «Нигрине» рисовать возмущающий душу образ тогдашнего Рима. — Зачем покинул ты свет солнца, Грецию, блаженство ее свободной жизни, и явился сюда, в эту сутолоку пышного холопства, прислужничества и хлебосольства, сикофантов, льстецов, отравителей, ложных друзей, искателей наследства» и так далее. В этом в других подобных случаях обнаруживается высокая серьезность чувства, лежащего в основе всякой игры, которая хочет быть поэтической. Даже в злых шутках, которыми Лукиан, так же как Аристофан, поносит Сократа, виден серьезный ум, мстящий софисту за истину и борющийся за идеал, не всегда, правда, его высказывая. В своем «Диогене» и «Демонаксе» он защитил такой характер от всевозможных сомнений; и среди писателей нового времени не пользовался ля Сервантес каждым достойным поводом, чтобы выразить великий и прекрасный характер в своем «Дон Кихоте»! Какой великолепный идеал должен был жить в душе поэта, создавшего таких людей, как Том Джонс и Софья! Как величаво, с какой силой может волновать нашу душу, когда он хочет этого, шутник Йорик! Эту серьезность чувства я вижу и в нашем Виланде; грациозность его сердца одушевляет и облагораживает даже капризные игры его причудливого настроения, ею отмечены самые ритмы его песни, и никогда у его порывов нет недостатка в силе, чтобы поднять нас, когда он этого пожелает, ввысь.
О сатире Вольтера такого же суждения вынести нельзя. Конечно, то, что нас временами поэтически волнует и у этого писателя, это также лишь правда и простота природы, — когда он их действительно достигает в наивном характере, как не раз удается ему в «Простодушном» или когда он к ним стремится и за них мстит, как в «Кандиде». Где нет ни того, ни другого, он может нас веселить как острый ум, но, разумеется, не может волновать как поэт. Однако, собственно говоря, в самом его смехе всегда слишком мало серьезности, и это дает нам право усомниться в его поэтическом призвании. Мы везде встречаем его рассудок, не чувство. Из‑под его веселой личины не выглядывает какой‑либо идеал, и в его вечном движении вряд ли есть что‑либо абсолютно устойчивое. Удивительное многообразие его внешних форм далеко еще не доказывает внутренней полноты его духа и скорее служит опасным свидетельством в пользу противного; ведь, несмотря на обилие своих форм, он не нашел ни одной, в которой мог бы выразить сердце. Можно, пожалуй, даже спросить себя с тревогой, не бедность ли сердца у этого богатого ума определила его призвание к сатире? Если бы не так, он должен был бы хоть раз на своем долгом пути выйти из этой узкой колеи. Но сколь ни велико у него разнообразие материала и внешних форм, мы видим, что все одна и та же внутренняя форма возвращается вновь и вновь в своем вечном, скудном однообразии, что он, как ни велика по объему его жизнь, не свершил в своей душе того круга человечности, который прошли, радуя нас этим, ранее упомянутые сатирики.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: