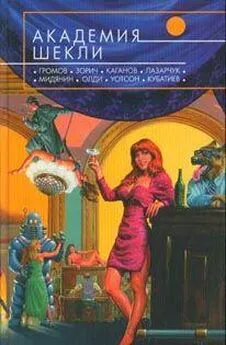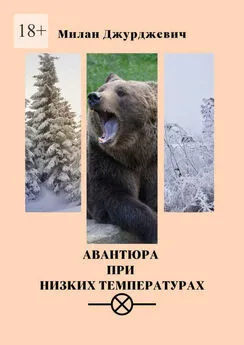Капитолина Кокшенева - Революция низких смыслов
- Название:Революция низких смыслов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Лето
- Год:2001
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Капитолина Кокшенева - Революция низких смыслов краткое содержание
Книга Капитолины Кокшеневой результат более чем десятилетних размышлений о том, почему нормальному человеку скучно читать современную литературу. Размышлений, ценных не столько анализом каких-то конкретных произведений и театральных постановок конца ХХ века, сколько выходом на серьезные онтологические проблемы развития русской культуры. Размышления Кокшеневой интересны и тем, что они включают в себя религиозную оценку новой литературы и драматургии, и тем, что эта религиозность даже в самых неблагопристойных ситуациях звучит не как приговор, но как сочувствие. Это не просто «по-русски», это по-человечески, — жалеть Виктюка, поставившего «Спортивные сцены» Радзинского еще в конце 80-х. Сочувствовать не греху, но грешному человеку, убожеству и уродству его внутреннего мира. И одновременно переживать за изуродованные и обесчещенные этим человеком женские образы (статья «О женщине»).
Революция низких смыслов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В мире, где идеалом все настойчивее объявляется красивая, беспроблемная жизнь, для настоящего русского писателя все меньше остается места. Он (и это очень заметно по представительским спискам и номинациям), все активнее будет вытесняться «вниз», в тот низ, что у нас сохраняет толща народная, донная жизнь. Желающих же сознательно ответит такому вызову, конечно, будет немного. И все же в каждом поколении находятся те сильные писательские личности, которые не боятся этого вытеснения. Именно через этих писателей народ-нация дает простор своим силам, взглядам, пониманию жизни. А в том, что это понимание русское (почвенническое) можно легко убедиться, покинув пределы Московской области. Не нами сказано, но сказано удивительно верно (и верно навсегда, пока есть наш народ-нация), что «весь наш простой народ — такие (бессознательные — К.К.) славянофилы» (Н. Н. Страхов).
У Павлова есть русское, очень русское — это вера в жизнь. Это умение признать и сохранить в литературе то, что выходит за границы всякого логического рассуждения и сугубо рационального разумения. Это умение сохранить боль как свойство живых существ, «не дать забыть» жизнь нынешнюю тех, кто и книг-то наших не читает, а если и читает, то только одну книгу «о правде» (как капитан Хабаров) — это умение абсолютно ценно. Павловская проза — органическая, ибо пронизана страдательными токами жизни. Павловская проза обладает несомненым качеством — качеством русской литературы, в которой писатель способен «растянуться умом и сердцем во всю ширину земной жизни». Отсюда и дух нашей литературы и главное условие ее существования — естественный рост, исходящий собственно от жизненных сил, но не «развития», которое столь ярко-бесплодно продемострировано в последние годы. «Развития» под «счастливой звездой» подражаний, расчета, развлечения, самовыражения.
В прозе Олега Павлова, собственно, как раз нет никакого «развития»: ни понимаемого в узко-эстетическом смысле (развитие характера, развитие тенденции, идеи), ни в означенном выше как движении неизвестно куда, но к непременному «новому». Если что-то и меняется в мире его героев, то скорее — это слом, резкий поворот судьбы, срыв, обрыв, то есть то, что всегда внезапно и трагично. Трагическая неподвижность мира (будь то армейская жизнь, солдатская, казенная) очень точно передается прозаиком через бесконечность и безначальность, через утрированное чувство, что так было «давно», так и «сейчас», так и «будет». И нет тут осуждения — только терпение, только покорность. А если бунт, роптание, то это всегда за пределом, за «краем» — как выплеск, как крик, как резкий отказ от всего и, сразу, именно от всего (последние рассказы «Степной книги»). Никто у Павлова не «латает дыры», не «сшивает» разъезжающиеся ткани. Никто не будет чистое перемешивать с нечистотой, чтобы украсить да забелить, так и не добившись настоящей белизны. И все эти бунты до конца — тоже ведь составная трагедийная часть нашей жизни. Но только обладающий метафизическим духом народ способен к этой предельности, к трагедийности. Тут «удел великого народа, а не «малого» (в духовном смысле), удел народа-нации» (Н. П. Ильин). Однако сегодня все чаще кажется, что русская литература пришла к своему поражению именно в этом месте: остался национальный пафос, пишутся исторические сочинения с «правильными идеями», но духа трагедийности (а значит — духа подлинности) почти не ощутить. А между тем он был и есть в произведениях наших современников: Федора Абрамова, Константина Воробьева, Валентина Распутина, Александра Солженицына, Леонида Бородина. Наши же «образованные победители «не способны не то что понять, но и попросту вынести трагически поставленного вопроса о человеке и его жизни. Им глубоко чужд наш отечественный «род творцов».
Другая особенность литературы, живущей трагизмом, — это всегда литература убеждений. Тут наше особое требование, которое, собственно, достаточно трудно выполнимо, если под «убеждениями» понимать не модные мнения, не смутные порывы, не тьму либерализма, где убеждение как правило сводится к лозунгу «прав человека» и «прав на свободу слова», которыми так пакостно у нас распорядились в последнее десятилетие. В слове «убеждение» слишком отчетливо звучит свернутое в упругость согласных требование жить определенными мыслями и идеями, а не только «доносить» их до другого. То, что нельзя сегодня жить либеральными принципами, сами же любители libera и продемонстрировали свободной, рыночной продажей слова. Впрочем, уместно вспомнить и другие слова: «Русский народ и русское общество во всех слоях своих способно принять и выдержать всякую дозу свободы» (Н. Я. Данилевский). Свободу быть убитым на гражданской, свободу сгнить в концлагерях, свободу на голодное вымирание при раскрестьянивании и нынешнее «бархатное» унижение… Пожалуй, главное в русской литературе — ее внимание к человеку, к вечным началам его души, отстаивание полного человеческого достоинства. (Между тем как все «измы» не имеют прежде всего полноты, а значит и ясного, явленного лица). В такой ситуации важен не только философский смысл литературы, и даже не только религиозный (о православии русской литературы сегодня рассуждают много и часто не без ущерба для Православия и для литературы, а писательское богословствование чаще всего завершается хулой, ерничеством и ересью даже при благих намерениях), и, конечно же, не публицистический (что ведет к деградации), но собственно художественный, литературный. И здесь силу нашей литературы никому не отнять — она говорит о мире человека, о его самобытии. Литература выражает духовно-душевную реальность непосредственно в образе. Литература дает очень конкретное бытие человека, дает понимание внутренней жизни всего сущего. И только такая глубокая связь художественного с национальной идеологией не будет выглядеть поспешной и нарочитой. «Что значу я?» — вопрос узловой для всей проблематики русской культуры и русской жизни вообще, существенно первичный по отношению ко всяческим «что делать?» и «кто виноват?» (Н. П. Ильин). «Обдумать себя» для литературы не означает буквального изображения процесса мышления — она скорее будет говорить интуициями, зреть различия между внутренним миром личности, ее «я» и ее жизнью.
В романе «Дело Матюшина» Олег Павлов дает своеобразное «исследование» этого «я» — идущего мимо жизни героя. Современный герой, говорит прозаик, явно «убывает в чувстве своей жизни». «Неизвестный сам себе», он предстает миру словно с укороченным, суженным сознанием. Он уже и рождается со своим «нутряным горем», где безлюбость — тот ключ, коим запирается дверь в собственный мир, отделенный как от своих (отца, матери, брата), так и от чужих. Матюшин — «запертый человек». И не только потому, что солдат скрыт от мира казармой; он «заперт» в свои дремотные мысли и прилагает неимоверные усилия в борьбе за границы своего «я». Он, Матюшин, эту борьбу проигрывает жизни — жизни серой и муторной, в которой побеждает непонятная ему логика зла. Автор настойчиво обрисовывает ситуацию дремотного сознания — словно тело, душа и мысли его героя никак не могут обрести связи друг с другом, но существуют порознь.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: