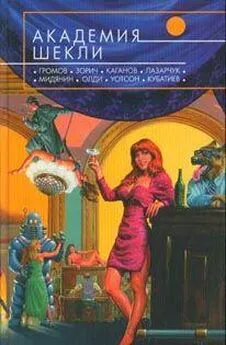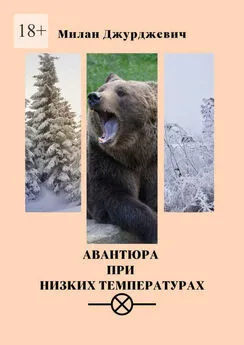Капитолина Кокшенева - Революция низких смыслов
- Название:Революция низких смыслов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Лето
- Год:2001
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Капитолина Кокшенева - Революция низких смыслов краткое содержание
Книга Капитолины Кокшеневой результат более чем десятилетних размышлений о том, почему нормальному человеку скучно читать современную литературу. Размышлений, ценных не столько анализом каких-то конкретных произведений и театральных постановок конца ХХ века, сколько выходом на серьезные онтологические проблемы развития русской культуры. Размышления Кокшеневой интересны и тем, что они включают в себя религиозную оценку новой литературы и драматургии, и тем, что эта религиозность даже в самых неблагопристойных ситуациях звучит не как приговор, но как сочувствие. Это не просто «по-русски», это по-человечески, — жалеть Виктюка, поставившего «Спортивные сцены» Радзинского еще в конце 80-х. Сочувствовать не греху, но грешному человеку, убожеству и уродству его внутреннего мира. И одновременно переживать за изуродованные и обесчещенные этим человеком женские образы (статья «О женщине»).
Революция низких смыслов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Штурм современности, предпринятый Сегенем с помощью русского урагана, результаты дал совершенно победительные. Но можно ли (и правильно ли вообще) говорить о «победительных результатах», если речь в романе идет о всей той темноте, что несет политиканство, о всей той культурной, интеллектуальной и экспериментальной нечистоте, которой одаривают общество новаторы-разрушители?
Из пестроты и разноголосия «всей жизни» автор действительно выбрал то, что этой современности принадлежит как самое характерное. А «принадлежит» ей катастрофическое нарушение границ всего и во всем: в нравственной, культурной, политической, социальной, идейной жизни. Разве не нарушают границы все те искусствоведы и продавцы, кто усиленно вталкивает Малевича в «классики русской культуры»? Те, кто внушает, как хозяйка квартиры-салона, что «от картин Малевича исходит мощнейшая эманация трансцендентальной силы. Кругово иззебренное спиралевидно метеорирует в пространство вокруг себя. Оно безжалостно угнетает человеческую особь, пока еще слишком слабую для восприятия галактических вторжений». Разве не шулерствуют те, кто активно занимается в культуре созданием ситуации «продуктивного непонимания»? Все эти «профетические прелиминарности», «возвратные формы христианства», «имманентные революционности» великих мыслителей, «священные футуризмы» и «крепускулярные состояния» патриота-интеллектуала Вздугина, с наслаждением низвергающего все и вся, так мало в сути различимы с пафосом «бафометофористов», пишущих о «контрсистеме тайны Иосифа Бродского, направленной версус механизмой возвратного реалистического вируса и за свободу стихоисповедания». Именно так — ни больше и не меньше. А нынешний модный писатель Виктор Пеле (Пелёнкин) — не сугубым ли накоплением темноты занят? Ведь именно эта литература воспринимается экзальтированной и практичной сутенершей Галатеей (место действия Краснодар) за истинную реальность: «Только он сумел доказать, что реальности не существует, его книги — вот истинная реальность. А мир, в котором мы живем, — лишь отражение его книг».
Вообще, Сегень на протяжении всего романа ведет отчаянную борьбу за русский язык, за его нормальность и нормативность, когда слова и вещи, слова и нравственность, слова и чувства имеют глубинную и реальную связь между собой. В картинах романа, где герой встречается с Вздугиным и читает Пеле (Пелёнкина), писатель с веселой пылкостью сдирает чужеземную кожу с умных терминов, он остроумно высмеивает кощунственные (у Вздугина) и полые (у Пеле-Пелёнкина) смыслы текстов. И тогда оказывается, что эти смыслы становятся совсем не нужны его герою (и его народу), ибо их язык не связан с живым духом человека. Сором, хламом оказывается все то, что имеет цену на мировом аукционе или в пространстве «мировой культуры». В общем, совершенно определенно звучит писательская оценка «смеси нигилизма с фашизмом и белогвардейско-большевистской идеологией» провинциального гения Вздугина и «романиссимусов» столичной штучки в черных очках Виктора Пеле. Пародируя стиль, утрируя приемы названных писателей-интеллектуалов, столь усиленно работающих с русским языком, Сегень показал, что мы живем в странной ситуации: мы — это люди одной страны, разделенные общим языком.
То, что ценит «все человечество», герой Сегеня категорически не умеет и не может принять.
Зато без всяких слов, без всяких комментариев Выкрутасов, занесенный силой урагана на берег реки в общество четверых кубанских казаков, совершенно естественно вливается в тот строй мыслей и чувств, что неминуемо возникает в подобном мужском товариществе. Тут и юмор, и удаль, и бахвальство. Тут и веселое посвящение в казаки (с непременным сочинением по ходу дела казачьей биографии Выкрутасову). Тут и утреннее возвращение с повинной к своим женам — возвращение, которому предшествовал спор: чья жена приветливее встретит? Но никакая казачка не встретила их с должным «гостеприимством», ибо «жены на то и даны, чтоб казаки не спивались». Всегда так было. Не нами заведено, не нами и кончится. «Вот видишь, — говорит Выкрутасову казак, — как мы под женой ходим, — зато никакому внешнему врагу не поддаемся». И то правда. И таким настоящими кажутся все эти грозные жены, такими нормальными рядом с богатыми пьянчужками, коммунистками, монархистками. И такие песни казак о казаках пел, и таким «голосом, в котором была вся Россия».
Вместо непрерывного выпадения из нормы «ураганных» дамочек, вместо разнузданной языковой оргии Вздугина и Пеленкина, вместо легализованного мира псевдо-языка, писатель даст опору герою (и всем нам) в подлинных словах казачьей песни. Модернисты потому столь активно «работают с языком», что знают: с помощью языка можно получить власть. Но с помощью языка можно не прояснять смыслы и не объяснять человеку самого себя, но затемнять смыслы и уводить человека от самого себя (чем они и занимаются). Модернистов категорически не интерересует тот самый народный дух, что живет в языке. Их реформа языка, которой Сегень дает не теоретический, не идеологический, а прямой, образный удар-отпор, не имела бы никакой власти, если бы современный человек обладал способностью прямого чутья, доверял себе, а не бросался с веселой погибелью на новейшие языковые бастионы отыскивать там… Увы, да и знает ли он сам, что ищет?
Соблазнители и соблазненные, искусители и искусившиеся — вот героя сегеневского романа.
Писатель представил весь этот маскарад современности с уничтожающей, развенчивающей дерзостью, но сделал это талантливо — и потому у него не уроды бегают по сцене жизни, не «рожи» и «рыла свиные», но живые, хотя и «искаженные люди», ибо нарушение границ касается и самого человека. Искаженный человек боится реальности, но тем не менее, презрение к реальности не мешает ему, как сутенерше Галатее, заниматься самым реально-грязным и развратным делом.
Русский писатель не может сочинять сатирический роман по законам нынешнего представления о сатире. Гоголь писал «Мертвые души» как поэму и русскому писателю этого факта никогда не сбросить (ибо нет нужды) с «корабля современности». Выкрутасов, конечно, сквозняком пролетает через все города и веси, и кому-то не хватит в нем тепла и сочувствия ко всем несчастным и не им обманутым, но все же сочувствие и жалость в нем есть, — просто по законам жанра здесь важнее не психология, но оценка. Все роскошно написанные картины жизни (чего стоит только одно описание посещения ресторана «Советская власть», гостиницы «Красной» в Краснодаре с ее нравами, или демсобрания в Нижнем с присутствием на нем героев-идеологов и оппозиционеров немыслимых политических сочетаний), все великолепные портреты современников так бы и остались в романе в лучшем случае социальной плотью дня нынешнего, если бы не тот угол зрения, который автор избрал в своем романе.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: