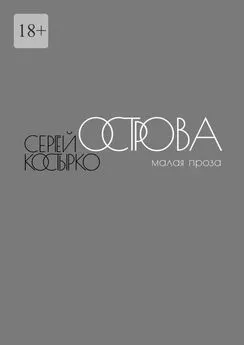Сергей Костырко - Простодушное чтение
- Название:Простодушное чтение
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Костырко - Простодушное чтение краткое содержание
Образ сегодняшней русской литературы (и не только русской), писавшийся многолетним обозревателем «Нового мира» и «Журнального зала» Сергеем Костырко «в режиме реального времени» с поиском опорных для ее эстетики точек в творчестве А. Гаврилова, М. Палей, Е. Попова, А. Азольского, В. Павловой, О. Ермакова, М. Бутова, С. Гандлевского, А. Слаповского, а также С. Шаргунова, З. Прилепина и других. Завершающий книгу раздел «Тяжесть свободы» посвящен проблеме наших взаимоотношений с понятиями демократии и гуманизма в условиях реальной свободы – взаимоотношений, оказавшихся неожиданно сложными, подвигнувшими многих на пересмотр традиционных для русской культуры представлений о тоталитаризме, патриотизме, гражданственности, человеческом достоинстве.
Простодушное чтение - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
И очень легко понять (если не принять) крайний прагматизм Щебнева, исходящий из мужественной констатации:
«Что поделаешь? У нас исторически сложился особый вариант демократии – патерналистский».
И соответственно, по Щебневу,
«народовластие – игрушка не для России. Нашего чпокнутого богоносца к избирательным урнам надо подпускать как можно реже…Чуть зазеваешься – и эти козлы тут же норовят выбрать какого-нибудь ваххабита, педераста или, прости господи, эстрадного певца».
Стилистика Щебнева может, конечно, покоробить, но что еще ожидать от «беспринципного и лживого образчика поколения Next», как характеризует себя сам герой. Нет, он, конечно, циник, но циник рефлексирующий и печальный – «горе от ума» в современном варианте.
Иными словами, не может Щебнев не осознавать обоснованности чувства своего превосходства и над коллегами, и вообще над «народонаселением». А потому, если у кого и есть в романе право «пасти народы», так это у него – у Ивана Щебнева. И не следует поспешно, как делает автор, осуждать его за попытку взять державный кнут в свои руки, как только представится возможность. Ну а возможность эту ему предоставляет Яна Штейн и байкер-басурманин, в ходе повествования оказывающийся честным фээсбэшником Максимом Лаптевым.
Дело в том, что кулинарная книга Парацельса, которую ищут Яна и Максим Лаптев, обладает магической силой – приготовленная по ее рецептам еда, скажем, пирожное наделяет съевшего его харизмой неимоверной мощи. Даже убогий Погодин, случайно опробовавший его, смотрится на телеэкране национальным лидером.
И вот здесь главное ехидство автора, заставившего задуматься своего «кремлевского героя» над вопросом: что такое харизма политика? Откуда она берется? Автор отвечает откуда. Из желудка. Именно желудок, то есть процессы переваривания пищи и выбросы неожиданной энергии в организм политика, в том числе и в мозг, и решают судьбы мира.
Щебневу от прежнего владельца его кабинета досталось тайное собрание разнообразных и вроде бы никак не связанных по содержанию файлов. В файлах этих прослеживается, например, история Хаммера, обладателя колдовского обаяния, с помощью которого он заворожил в свое время и Ленина, и Сталина, отдавших ему страну на разграбление. А в соседних файлах – история возвышения и падения Гитлера, которую некоторые связывают с мистической связью фюрера с Шамбалой, и Шамбала, точнее, Тибет там тоже присутствовал, только в более специфическом ракурсе, и т. д. и т. д.
И пока Яна с капитаном Лаптевым выпутываются из все более сложных и опасных ситуаций, в которые попадают, Щебнев ведет поиск интеллектуальный. Он пытается сложить все эти как бы нескладывающиеся файлы в единую картинку, и, надо отдать ему должное, к цели он приходит раньше наших положительных героев. Щебнев первый понимает, что значит обладание книгой Парацельса для судеб его страны, ну и, естественно, для его собственной судьбы, которые в один прекрасный момент могут стать неотделимыми.
Так что автор еще может сам поспорить в цинизме (или трезвости?) с очерненным им героем. Но повторяю, что еще взять с эмигранта, да еще в его размышлениях о тайных, сокровенных механизмах мировой истории и снова входящей сегодня в моду кремлелогии?
5. О критике вчерашней и «сегодняшней»
По следам одной дискуссии
Наверно, самый непродуктивный способ мышления – это спор: слишком много энергии уходит в пар и свисток.
Дискуссия о феномене современной газетной критики начиналась корректно и обещала плодотворный разговор. Но дошло до личностей – и все раскалилось, вздыбилось [6] . Дымом затянуло сам предмет разговора. Начались выяснения (разборки), кто есть кто в критике. А жаль. Жаль, что важнейшие – принципиальные для нынешнего состояния литературы – понятия проговариваются слишком разгоряченными людьми и слишком на бегу. Я предлагаю остановиться, может быть, чуть вернуться назад. Даже и понимая, насколько спокойный – с повторением пройденного, с апелляцией к очевидному – разговор будет проигрывать в увлекательности.
Итак. Предмет разговора: роль критики сегодня. То есть кому, зачем и в каком качестве нужен критик.
Почти маниакальное постоянство, с которым критики обращаются к этому вопросу, не значит, что разрешить его невозможно. А значит, что на каждом этапе развития общества и литературы она, эта роль, разная. И разговор об этом имеет смысл, только когда анализируются взаимоотношения между сегодняшней жизнью, сегодняшней литературой и сегодняшней критикой. Именно так, как делается это в статьях Павла Басинского и Евгения Ермолина. На содержании этих статей мы остановимся еще и потому, что в них «концептуально» прописана одна из характерных для нынешней критики и существенных для нашего разговора позиций.
Начнем со статьи Евгения Ермолина.
«Середина 90-х. Хмурое утро неясного дня. Полюс холода упразднен. На время или навсегда в края оцепеневшего холода пришли тепло и свет. Льды сошли, снега растаяли. Обнажились грязь и копоть, смрад и бред миновавшей эпохи. Только день никак не разгуляется. Старое, кажется, кончилось – а новое так и не началось, несмотря на все уговоры», —
такой представляется автору жизнь. А вот критики на фоне этой жизни:
«И вдруг из этой тошнотворной обыденности вы попадаете в совсем не будничный мир, в чудесную оранжерею с экзотическими растениями, диковинными цветами».
Кто обитает в этой оранжерее, что это за так некстати расцветшие «диковинные цветы»? Это критики и обозреватели раздела культуры газеты «Сегодня» и «Независимой газеты»:
«отборное общество эрудитов, экспертов, талантов. Ослепительная публика, объединенная сознанием собственной отмеченности, принадлежности к культурно-авангардному бомонду».
«Страницы культуры и искусства (в этих газетах. – С. К.) вовсе не рассчитаны на заинтересованное внимание сколько-нибудь широких читательских масс. Скажу больше: здесь делается все, чтобы оттолкнуть обычного, так сказать, рядового читателя».
Культивируется эстетическая и прочая самодостаточность. Критики укрылись от реальной жизни в некоем ими же самими придуманном и созданном «контексте». И потому —
«здесь ли заводить разговоры о доблестях, о подвигах, о славе, ставить вопросы о человеческом уделе, о путях России, о красоте и художественной правде»?
Еще более безотрадную картину рисует в своих статьях Басинский. Если у Ермолина пусть хмурое, но все же – утро, то у Басинского – черная мгла опускается на литературу. Пафос почти апокалипсический. Свет над литературой угас окончательно, мы «после захода солнца, когда уже невозможно различить: кто есть кто». Вокруг «общая атмосфера цинизма и прагматизма», «чехарда кризисного времени (когда начальство ушло)», в которой мечутся «новоиспеченные главные редакторы» журналов, сменившие «старых, советских». «Самое тусклое время в русской литературе». Читатели ушли от литературы. Журналы, в которые она, эта литература, переселилась, теряют подписчиков.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
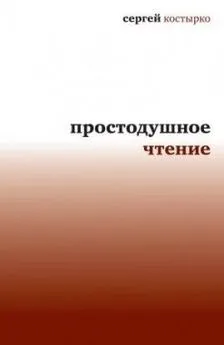



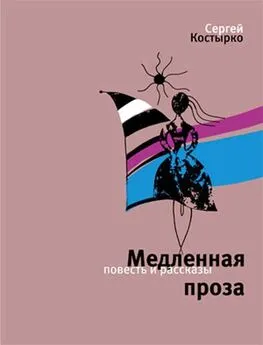
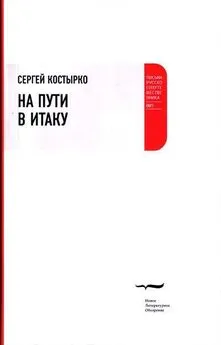
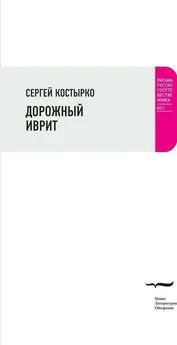
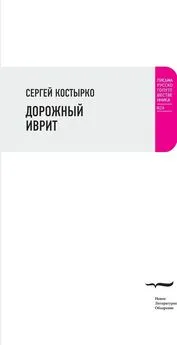
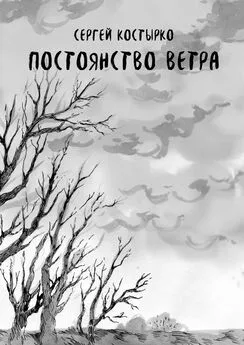
![Сергей Васильев - Простодушный [СИ]](/books/1092809/sergej-vasilev-prostodushnyj-si.webp)