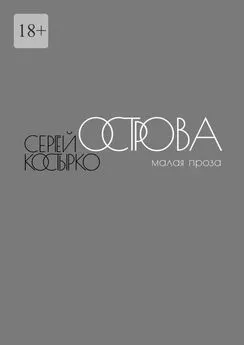Сергей Костырко - Простодушное чтение
- Название:Простодушное чтение
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Костырко - Простодушное чтение краткое содержание
Образ сегодняшней русской литературы (и не только русской), писавшийся многолетним обозревателем «Нового мира» и «Журнального зала» Сергеем Костырко «в режиме реального времени» с поиском опорных для ее эстетики точек в творчестве А. Гаврилова, М. Палей, Е. Попова, А. Азольского, В. Павловой, О. Ермакова, М. Бутова, С. Гандлевского, А. Слаповского, а также С. Шаргунова, З. Прилепина и других. Завершающий книгу раздел «Тяжесть свободы» посвящен проблеме наших взаимоотношений с понятиями демократии и гуманизма в условиях реальной свободы – взаимоотношений, оказавшихся неожиданно сложными, подвигнувшими многих на пересмотр традиционных для русской культуры представлений о тоталитаризме, патриотизме, гражданственности, человеческом достоинстве.
Простодушное чтение - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Только выбрав такую позицию, он избавляется от гордыни лидера. И как раз эта позиция дает критику, на мой взгляд, наибольшие возможности для проявления ума, культуры, таланта. При этом она не стесняет читателя, отводя ему роль ученика. А главное, мешает критику при истолковании деформировать литературу в угоду той или иной идеологии.
Приведенная выше (прошу прощения за ее громоздкость) формулировка во многом складывалась у меня в процессе чтения полосы «Искусство» в газете «Сегодня». Не потому, что помещенные там тексты самые лучшие, но потому, что – самые характерные для нынешней ситуации. Именно там критика пробует себя в новой роли, демонстрируя и ее, этой новой роли, преимущества, и ее серьезные недостатки.
Причем недостатки этой полосы, как водится, оказываются продолжением ее же достоинств. Первым и основным в перечне этих специфических достоинств-недостатков я бы назвал стиль [8] ее авторов. Сложилась парадоксальнейшая ситуация. В принципе, стиль, которым начали писать критики, был рожден прежде всего стремлением к максимальной открытости, демократичности критического текста. Критик не делит читателей на равных себе собеседников и на «обычных», «рядовых». Он изначально уважает умственные и культурные возможности своего читателя. Критик обращается к читателю как к себе, не делая различия. Он уважает читателя, и он уважает Литературу. Он как бы изначально предполагает, что литература выше нас с вами, она требует, чтобы мы дотянулись до нее, а не опускает ее на уровень «обычного», «рядового» читателя (определения «обычный», «рядовой» взяты из цитированного выше текста Ермолина, – так и вижу этого «обычного, рядового», за волосы отрывающего себя от телевизора с «Просто Марией» для прочтения в «Сегодня» очередного текста Ю. Гладильщикова или А. Ковалева).
Но чем больше свободы, тем больше требуется самодисциплины. Вот место, которое, на мой взгляд, оказалось скользким для некоторых обозревателей «Сегодня». Они слишком обрадовались тому, что теперь можно быть публично умными, публично образованными, талантливыми, оригинальными, раскованными. И эта свобода в какой-то момент начала становиться для них самоценной. Только так я могу объяснить чрезмерное увлечение обозревателей «Сегодня» терминологией, прихотливостью изложения, интеллектуальной игрой. Или такую, например, загадочную для меня особенность текстов талантливого Кузьминского, у которого обаятельная раскованность может вдруг обернуться размашистой (если не сказать больше) категоричностью: «скурвились на кольцевых линиях метро», «клинический идиот» – это все о реально существующих людях, коллегах… Оказалось, что в стремлении критиков к предельной открытости перед читателем можно прийти и к противоположному – недемократичности и почти тусовочной закрытости иных текстов.
Вот этот недостаток и был в первую очередь замечен оппонентами газеты, поставившими телегу впереди лошади. Благо примеров оказалось предостаточно. Разборы отдельных пассажей Кузьминского или Курицына, скажем, в статье Ермолина, на мой взгляд, точны убийственно.
В общем, ошибок и просчетов у «сегодняшней» полосы «Искусство» столько, что и половина их способна погубить любую газету. Но несмотря ни на что, именно эта полоса «Сегодня» остается самой читаемой и, соответственно, – одной из самых влиятельных в литературном мире. «Малозаметные критики» – назвал обозревателей «Сегодня» Ермолин и даже как бы засомневался, а стоит ли вообще о них писать. И все-таки написал огромную горячую статью, демонстрирующую живейшую заинтересованность, даже пристальность регулярного чтения этой газеты. «Микроорганизмы», попробовал отмахнуться от критиков «Сегодня» Быков, но и его снисходительного высокомерия хватило на полосную статью в «ЛГ», и если судить по темпераменту, с которым она написана, если судить по некоторой, для куртуазного маньериста удивительной даже, крепости выражений, то нельзя не отметить, что фактом существования этих «микроорганизмов» он задет не на шутку.
Ну и что же – неужели все они, критики из «Сегодня», такие невозможно яркие, значительные? Нет, разумеется. Дело в ситуации, которая складывается в литературе и в критике и которую первой уловила как раз эта газета, предложившая новый тип общения и с читателем, и с культурой. И попала в точку.
Теперь время перейти к самому типу критика, представленному газетой. Возьмем для этого конкретную фигуру. Какую? Увы. К сожалению, ответ на этот вопрос предопределен. Андрея Немзера. Почему «к сожалению» – об этом позже.
А пока мне хотелось бы договориться с читателем вот о чем. Я не собираюсь писать портрет критика Немзера – мы говорим здесь о критике, а не о критиках. Мне бы хотелось обратиться к нему как к некой знаковой фигуре. Как к некой модели литературного поведения. Понимаю, что такое условие несколько щекотливо. Но что делать: выбрав публичную форму существования, имярек обречен принимать и все блага, и все тяготы ее. К тому ж у меня есть предшественник – Павел Басинский, литературно-критическими средствами создавший художественное произведение «Человек с ружьем» и назвавший героя Немзером. Будем считать, что я продолжаю уже возникший жанр.
Итак, «феномен Немзера» – в чем он?
Абсолютно согласно и друзья, и недруги признают Немзера одним из заметных явлений нашей критики.
И одновременно ни одна фигура не вызывает столько раздражения. Им недовольно – тут я вряд ли ошибусь – подавляющее большинство коллег по цеху (оговорюсь, что к большинству этому не принадлежу). Не любят критика и те, кого он задел в своих текстах, и те, кого он вообще никогда не замечал, и те, у кого таких претензий быть не может. Удивительна эта повсеместная нелюбовь. Чем она вызвана?
Ермолин обвиняет Немзера в излишней бесстрастности: автор «дежурно-равнодушных откликов». Исключение, на его взгляд, составили только рецензия на повесть Рошаля и малопонятная перепалка с неким Коноваловым, в которой «Немзер впервые по-настоящему азартно вступил в полемику» «за многие месяцы и даже годы литературно-критической деятельности». Но спустя некоторое время появляется статья Басинского, предъявившего критику обвинения в нетерпимости, неистовстве, а в случае с рецензированием повести Варламова – чуть ли не в садистском сладострастии, с которым он разделывается с неугодными.
Упрек в архаичности морализма Немзера, в отсутствии «духовных нажитков» Ермолин подкрепляет вот таким размышлением:«Иногда кажется, что критик мировоззренчески прошел мимо почти всего XX века… – до такой степени «старорежимны» его крайне неопределенный гуманизм, его степенный оптимизм, его полнейшая душевная безмятежность и благородство намерений а la Степан Верховенский».
Интервал:
Закладка:
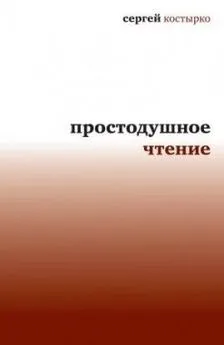



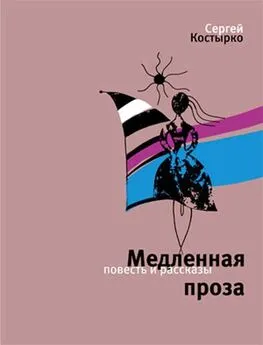
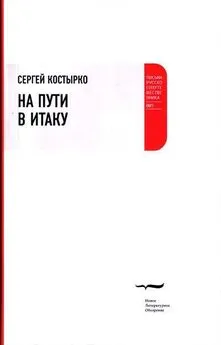
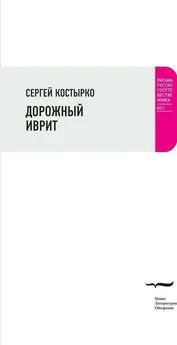
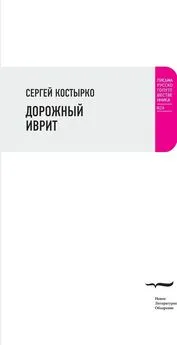
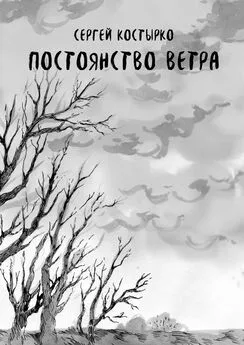
![Сергей Васильев - Простодушный [СИ]](/books/1092809/sergej-vasilev-prostodushnyj-si.webp)