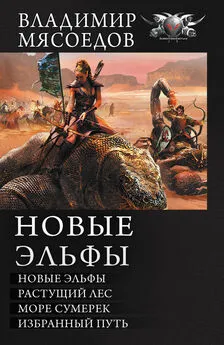Владимир Шулятиков - Новая сцена и новая драма
- Название:Новая сцена и новая драма
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Шулятиков - Новая сцена и новая драма краткое содержание
«Вычурно разукрашенная ваза; она расколота пополам, но половины ее соединены и скреплены старой, перегнивающей веревкой. В вазе пустили побеги лесные фиалки. Нарядная, массивная античная колонна; она брошена на землю и разбита. Обломки колонны покрыты дикими полевыми цветами.
Лет десять тому назад подобного рода рисунки и виньетки неизменно красовались на заглавных листах и страницах западно-европейских художественных журналов, взявших под свое покровительство «новое искусство» …»
Новая сцена и новая драма - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Не будем голословны. Пойдем по пути, избранному модной критической школой. Разовьем аргументацию ее сторонников. А для этого нам придется расширить несколько рамки нашего исследования. Чтобы лучше и вернее оценить склонность к «туманам», проявленную корифеем русского модернизма в «Жизни Человека» и «Царе Голоде», необходимо обратиться и к другим, недраматическим произведениям Л. Андреева. Последние дадут нам дополнительный комментарий, оттенят органическое значение «туманных» элементов его творчества.
В одном из своих первых рассказов, рисуя фигуру человека, потерпевшего решительное фиаско в борьбе за жизнь и молчаливо ожидающего смерти, Л. Андреев сообщает следующую любопытную психологическую подробность. Каждый день на рассвете, лежа на постели и всматриваясь в убегающую мглу ночи, его герой «видел то, чего не видят другие: колыхание серого огромного тела, бесформенного и страшного. Оно было прозрачно, [9] охватывало все, и предметы в нем были, как за стеклянной стеной» («В подвале»). С тем же самым явлением мы встречаемся в «Красном смехе». Вспомним заключительную сцену праздника, устроенного офицерами. Офицеры столпились вокруг потухшего самовара и, парализованные ужасом, наблюдают нечто необычайное. «Молча стояли мы, – рассказывает андреевский герой, от имени которого ведется повествование, – а с неба на нас пристально и молча глядела огромная бесформенная тень, поднявшаяся над миром. Внезапно, совсем близко от нас… заиграла музыка…, и видно было, что те, кто играют, и те, кто слушают, видят так же, как и мы, эту огромную, бесформенную тень, поднявшуюся над миром».
Наиболее обстоятельно и наиболее рельефно видения «бесформенного, прозрачного тела», «бесформенной тени» обрисованы в «Елеазаре». Автор передает чувства тех, кто приходил взглянуть на «чудесно воскресшего» и в ком страшный взгляд Елеазара убивал всякую жажду жизни.
«Все предметы, видимые глазом и осязаемые руками, становились пусты, легки и прозрачны – подобны светлым теням во мраке ночи становились они, ибо та великая тьма, что объемлет все мироздание, не рассеивалась ни солнцем, ни луною, ни звездами, а безграничным черным покровом одевала землю, как мать обнимала ее;
во все тела проникала она, в железо в камень, и одиноки становились частицы тела, потерявшие связь, и в глубину частиц проникала она, и одиноки становились частицы частиц;…
в пустоте расстилали свои корни деревья и сами были пусты; в пустоте, грозя призрачным падением, высились храмы, дворцы и дома и сами были пусты, и в пустоте двигался беспокойно человек и сам был пуст и легок, как тень…»
Конечно, отождествлять художника с нарисованными им образами, приписывать художнику взгляды и настроения его героев следует с величайшей осторожностью. На этой почве сплошь и рядом происходят недоразумения и ошибки. Но в данном случае мы имеем полное право утверждать, что отмеченный выше способ восприятия внешнего мира характерен не только для отдельных персонажей андреевских произведений. Уже то обстоятельство, что Л. Андреев особенно подробно говорит о восприятии внешнего мира сквозь призму «тумана» и «стеклянной стены» именно в «Елеазаре», весьма знаменательно: «Елеазар» – произведение, в котором Л. Андреев дал наиболее законченную, наиболее решительную формулировку своих пессимистических взглядов, в котором он выступает с известными обобщениями. Но имеется ряд и других доказательств.
Обратите внимание на обстановку, среди которой разыгрываются наиболее типичные для андреевского жанра события и сцены: туман, сумерки, мгла, тьма, как известно, пользуются, в качестве аксессуаров, чрезмерными симпатиями нашего беллетриста. И эти симпатии не внушены простым желанием следовать рецептам шаблонной поэтики. Туман и тьма означают здесь нечто иное. Они указывают на ту позицию, от которой Л. Андреев отправляется, как художник. Рисовать явления действительности с известного, весьма и весьма далекого расстояния, рисовать их завуалированными – таково основное правило (точнее, одно из двух основных правил) его художественного творчества.
В начале «Рассказа о Сергее Петровиче», устами своего героя, Л. Андреев бросает попутное замечание, имеющее для нас особый интерес. Сергей Петрович читает «Так говорит Заратустра» Ницше. Он предпочитает подлинник переводу. Предпочтение вполне правильное и естественное и, казалось бы, не требующее никаких комментариев, но Л. Андреев, тем не менее, комментарии делает, ибо заставляет своего героя исходить из несколько необычных соображений. В переводе афоризмы Ницше проигрывают, по мнению Сергея Петровича, потому что становятся «слишком понятны» и «в их таинственной глубине просвечивает дно». Наоборот, когда «Сергей Петрович смотрел на готические очертания немецких букв, то в каждой фразе, помимо прямого ее смысла, он видел что-то непередаваемое словами, и прозрачная глубина темнела и становилась бездонною. Иногда ему приходила мысль, что если на свете явится новый пророк, он должен говорить на чуждом языке, чтобы все поняли его» Мысль парадоксальная, если не сказать большаго. Л. Андреев высказывает ее как бы несколько нерешительно, мимоходом. Но, на самом деле, она является столь естественной для его художественного миросозерцания. Речь идет, как видите, все о том же «тумане» и «стеклянной стене». Восприятие сквозь призму «тумана», изображение предметов и людей, удаленных на известное расстояние, выдвигается, как требование, как догмат, которому должен следовать беллетрист.
Этому требованию отвечают картины тумана, сумерек, мглы, щедро рассыпанные в произведениях Л. Андреева. Этому требованию отвечает целый арсенал несколько менее примитивных средств. Отметим некоторые из них.
О. Игнатий в рассказе «Молчание» смотрит на портрет своей умершей дочери. Главное, что в этом портрете приковывает его внимание, это – глаза. Благодаря известному положению теней, они казались окруженными черной рамкой. Странное выражение придал им неизвестный, но талантливый художник: как будто между глазами и тем, на что они смотрели, лежала тонкая, прозрачная пленка. Немного похоже было на черную крышку рояля, на которую тонким, незаметным пластом налегла летняя пыль, смягчая блеск полированного дерева». И это делает образ Веры чрезвычайно таинственным и далеким для о Игнатия. Или возьмем фигуру Василия Фивейского. Вот какого рода «стеклянной стеной» окружает его Л. Андреев: «Среди людей, их дел и разговоров о. Василий был так видимо обособлен, так непостижимо чужд всему, как если бы он не был человеком, а только движущейся оболочкой его… Кто бы ни видел его, всякий спрашивал себя: о чем думает этот человек? Так явственно была начертана глубокая дума во всех его движениях. Была она в тяжелой поступи, медлительной запинающейся речи, когда между двумя сказанными словами зияли черные провалы притаившейся далекой мысли; тяжелой пеленой висела она над его глазами, и туманен был далекий взор, тускло мерцавший из-под нависших бровей». Туман здесь заменяется «печатью тайны на челе».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
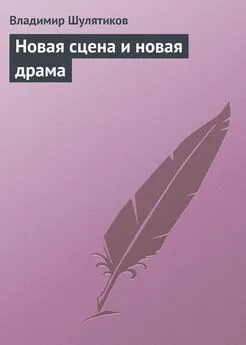

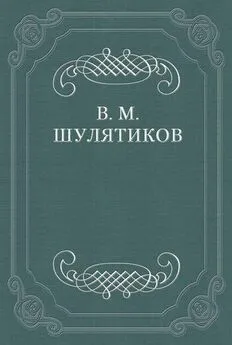
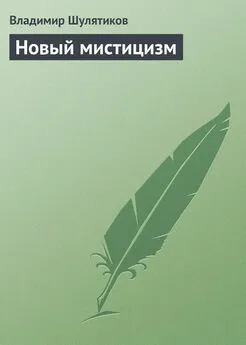
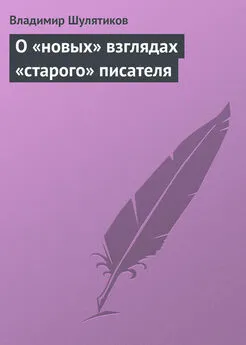

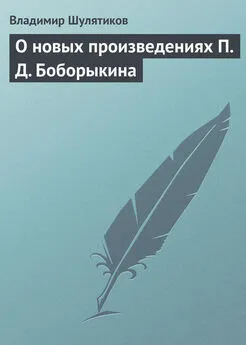
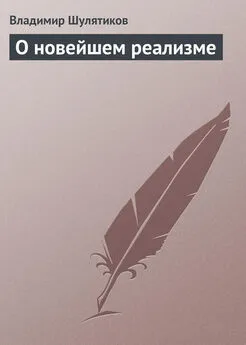

![Владимир Мясоедов - Новые эльфы: Новые эльфы. Растущий лес. Море сумерек. Избранный путь [сборник; litres]](/books/1098659/vladimir-myasoedov-novye-elfy-novye-elfy-rastuch.webp)