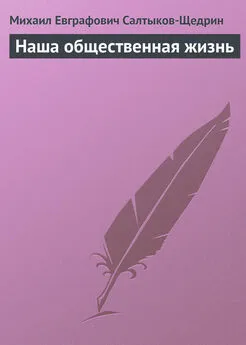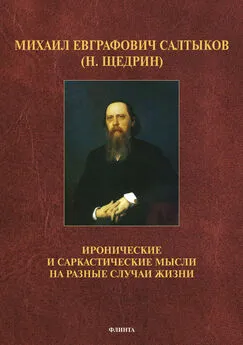Р. В. Иванов-Разумник - М. Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество
- Название:М. Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ИЗДАТЕЛЬСТВО ФЕДЕРАЦИЯ МОСКВА 1930
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Р. В. Иванов-Разумник - М. Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество краткое содержание
Настоящее ФИО: Разумник Васильевич Иванов. Русский критик, мыслитель. Был близок к левым эсерам, активно поддержал Октябрьскую революцию. В 1918 году оказался «левее Ленина», категорически не приняв Брестский мир. В последующие годы неоднократно подвергался арестам. Известен своей редакторской деятельностью: издания Панаева, Белинского, Ап. Григорьева, Салтыкова-Щедрина и других. В 30е годы подготовил собрание сочинений Александра Блока.
М. Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Очерки отдела «Богомольцы, странники и проезжие» при появлении их в журнале были посвящены Салтыковым С. Т. Аксакову — и это посвящение их одному из главных представителей славянофильства было далеко не случайно [87] Из очерков этого отдела сохранился черновик, озаглавленный «Господин Хрептюгин и его семейство». Первоначальное заглавие было «Постоялый двор», потом — «На постоялом дворе» и наконец — заглавие, приведенное выше. «Господин» выпал из окончательного текста. См. Бумаги Пушкинского Дома, рукописи Салтыкова из архива М. Стасюлевича
. Мы уже видели, что результатом вынужденной встречи с народом во время своей вятской ссылки сам Салтыков считал зарождение в себе непосредственного сочувствия к тому самому народу, к которому в годы своего утопического социализма он мог подходить только абстрактно. Постоянное пребывание «в самом источнике народной жизни» научило Салтыкова, по его же словам, «распознавать истинную веру народа…. относиться к нему сочувственно». Это сочувствие Салтыков считал «целым нравственным переворотом», определившим будущий характер своей деятельности. Этим будущим характером деятельности явилось для Салтыкова впоследствии социалистическое народничество; теперь же, в 1857 году, он думал найти конкретное выражение былых своих социалистических мечтаний в славянофильстве, занимавшем в конце пятидесятых годов прогрессивную позицию — и сильно гнул в сторону славянофильства. Это собственное выражение Салтыкова из письма его к известному тогда профессору истории П. В. Павлову, близкому его приятелю. «Признаюсь, я сильно гну в сторону славянофилов и нахожу, что в наши дни трудно держаться иного направления, — писал ему Салтыков 23 августа 1857 года (т. е. в том самом месяце, когда в журнале появились „Богомольцы, странники и проезжие“, посвященные С. Т. Аксакову). — В нем одном есть нечто похожее на твердую почву, в нем одном есть залог здорового развития. Господи, что за пакость случилась над Россией? Никогдато не жила она своею жизнью: то татарскою, то немецкою. Надо в удельный период залезать, чтобы найти какиелибо признаки самостоятельности… Думалось, мечталось о свободе русского человека, а где этот русский человек, где было искать его образ, как именно не в удельном периоде, в той уже покрытой мохом старине, где уже два десятка лет неустанно производили свои изыскания славянофилы» [88] «Русская Старина» 1897 г., № 11, стр. 235
. Салтыкова, былого фурьериста, в славянофильстве привлекали социалистические и анархические элементы мировоззрения, а также и жгучая ненависть к бюрократизму, порожденному, по мнению славянофилов, петровской реформой, и табелью о рангах. Вскрытие «Язв бюрократизма» в «Губернских очерках» могло быть углублено впоследствии Салтыковым именно в направлении вообще отрицания петровской реформы. Салтыков не пошел по этому пути: он выработал свои особые воззрению на «бюрократизм» и на «земщину», воззрения, которые он через несколько лет развил и в публицистических статьях и в художественных очерках, как мы это еще увидим.
Это выяснилось через несколько лет; теперь же, в «Богомольцах, странниках и проезжих», Салтыков действительно «сильно гнул в сторону славянофилов». В первом же очерке этого отдела противопоставляется светлыми красками описанная толпа богомольцев — гнусным фигурам пьяных провинциальных чиновников; губернатор, генерал Голубовицкий (впервые заменяющий в этом очерке губернатора первых рассказов, слабоумного князя Чебылкина), тоже выставлен во всем блеске своей бюрократической тупости. В очерках «Отставной солдат Пименов» и «Пахомовна», так же как и в очерке «Аринушка», принадлежащем к другому отделу, нарисованы типы народных святых с точки зрения самого же народа — именно так, как он понимался славянофилами. Но это увлечение славянофильством было у Салтыкова преходяще; чем дальше, тем больше славянофильство из прогрессивного течения становилось реакционным, окрашенным в цвета национализма и шовинизма. С таким течением Салтыкову было не по пути, и он примкнул к направлению, в котором признание народа краеугольным камнем мировоззрения приводило не к национализму, а к социализму, и в котором в то же самое время «народ» не разрисовывался сусальными красками и в сантиментальных тонах.
Несколько особняком среди очерков этого отдела стоит «Госпожа Музовкина». Он рисует нам не Крутогорск, не Вятку, а родную губернию автора. Нарисован пейзаж Тверской губернии, местность на берегу Волги, постоялый двор, хозяин которого знаком с детства автору. Фраза последнего: «месяца с три пробуду здесь», быть может говорит о приезде его в родные места на такой же срок еще из Вятки в начале 1853 года; а может быть речь идет и о посещении его родных мест уже и по возвращении из вятской ссылки. Госпожа Музовкина — тип, развитию которого Салтыков посвящал много внимания; в самих «Губернских очерках» ябеднику Перегоренскому отведено много страниц, и тип этот, варьируясь, дожил в произведениях Салтыкова до восьмидесятых годов: мы еще встретимся с ним в «Пошехонских рассказах», написанных почти через тридцать лет после «Губернских очерков».
Отдел «Драматические сцены и монологи» показывает нам первые попытки Салтыкова в драматической форме; закончив «Губернские очерки», Салтыков тотчас же попробовал написать в этой новой для него форме большое произведение, комедию «Смерть Пазухина», тесно связанную, как увидим это в одной из следующих глав, с циклом «Губернских очерков». Что же касается автобиографического монолога «Скука», о котором приходилось уже упоминать, то в нем, кроме этой автобиографичности, обращает на себя особенное внимание явный цензурный пропуск в журнальном тексте и две авторские купюры. Об одной из последних уже было сказано выше: в окончательной обработке текста для 4го издания Салтыков вычеркнул то место автобиографического характера, в котором говорилось о его любви к Бетси. Вычеркнул он в том же издании и главную часть абзаца о школе и несколько строк из ранних детских воспоминаний, строк, впоследствии развившихся в ряд страниц «Пошехонской старины». Что же касается цензурной купюры, то она очень характерна: из журнального текста выпало целых полстраницы, на которой приводились слова воспитателя студента о скрижалях истории и судьбах народа; здесь ядовито отмечалось, что «тот только народ благоденствует и процветает, который не уносится далеко, не порывается, не дерзает до вопроса»… Тема эта неоднократно впоследствии еще более ядовито развивалась Салтыковым. Эту купюру Салтыкову удалось восстановить впервые только в 3 м издании.
Следующий отдел, «Праздники», состоит из двух очерков, рисующих Рождество и Пасху в провинции и несомненно столь же автобиографичных, как и предыдущий очерк. Набросок «Елка» назывался раньше «Замечательный мальчик» и окончательное заглавие свое получил тоже только в 3 м издании. И опять-таки только в этом издании впервые изъята автором страница, носившая слишком автобиографический характер — о тяжелой и мрачной жизни «отщепенца» автора среди провинциальной праздничной суеты — заключительная страница очерка «Христос воскрес». Последние строки этого наброска, оставшиеся во всех редакциях, говорят о том, как «искреннейший друг Василий Николаич Проймин» зовет автора на пасхальный обед в кругу семьи. В этих строках Салтыков говорит о своем вятском друге Николае Васильевиче Ионине и его семье; эпизод, связанный именно с этим обедом, рассказан в воспоминаниях о вятском житье Салтыкова дочери Ионина, Л. Н. Спасской [89] Л. Н. Спасская, «М. Е. Салтыков», «Памятная книжка Вятской губернии на 1908 г.» (Вятка 1908 г.), стр. 109
.
Интервал:
Закладка: