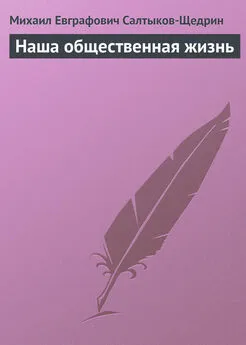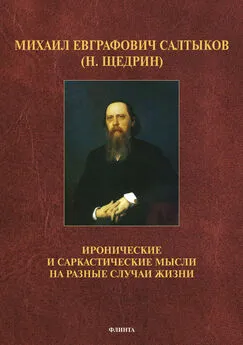Р. В. Иванов-Разумник - М. Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество
- Название:М. Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ИЗДАТЕЛЬСТВО ФЕДЕРАЦИЯ МОСКВА 1930
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Р. В. Иванов-Разумник - М. Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество краткое содержание
Настоящее ФИО: Разумник Васильевич Иванов. Русский критик, мыслитель. Был близок к левым эсерам, активно поддержал Октябрьскую революцию. В 1918 году оказался «левее Ленина», категорически не приняв Брестский мир. В последующие годы неоднократно подвергался арестам. Известен своей редакторской деятельностью: издания Панаева, Белинского, Ап. Григорьева, Салтыкова-Щедрина и других. В 30е годы подготовил собрание сочинений Александра Блока.
М. Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Это равнодушие производит тем более странное впечатление, что в других случаях автор поступает совершенно иначе, даже из мелких фактов житийного порядка дает очень серьезные, широкие и ответственные выводы. Цитируя воспоминания Салтыкова по «Пошехонской старине» (по художественному произведению!) о его впечатлениях от чтения Евангелия в детские годы, Иванов-Разумник решительно умозаключает: «позднейший фурьеризм и утопический социализм Салтыкова вырос из этого зерна, заброшенного еще в детскую душу». Если усвоить давнее положение Иванова-Разумника о необходимости применения в исследовании не только социально-экономического критерия, а еще и «этического, религиозного, философского», то, очевидно, можно будет тогда и «социалистическое народничество» Салтыкова возвести к этому же источнику, к этому «зерну». А вот «ни средняя школа, ни лицей не могли посеять в душе Салтыкова никаких зерен, которые могли бы дать ростки по выходе его из-за школьных стен»; и от евангельского зерна, минуя всякую «социологию», Иванов-Разумник прямо переходит к влиянию на Салтыкова Белинского. И едва ли это соответствует действительности: достаточно, хотя бы, указать несомненное наличие влияния Петрашевского на лицеистов времени пребывания в лицее Салтыкова. Это влияние было отмечено и на процессе. Знает о нем и сам Иванов-Разумник. Очевидно, желание выдвинуть более четко «религиозный фактор» привело к столь категорическому суждению о лицейских годах Щедрина. Ведь и сам биограф все же отмечает влияние школьных товарищей, участие ряда их в кружке Петрашевского (Европеуса, Спешнева, Кашкина), указывает на многочисленные свидетельства о знакомстве Салтыкова с самим Петрашевским, которое и по словам Иванова-Разумника «началось еще в лицее».
Наряду с учетом «религиозного фактора» Иванов-Разумник не чужд в своей работе и «этических» оценок, при том там, где требовался бы внимательный анализ фактов и отношений. Так, повествуя о следовательских подвигах Салтыкова по делам раскольников-старообрядцев периода его вятской ссылки, Иванов-Разумник считает своим долгом дать им моральную оценку: «Роль его (Салтыкова), как следователя, по делу о расколе не делает ему чести. Исполнительный чиновник, делающий карьеру (по его же выражению), взял здесь верх над человеком и заслонил собой писателя, которым Салтыков втайне продолжал оставаться и в вятской ссылке». И все.
Между тем вопрос весьма интересный и для Иванова-Разумника, и для его исследования отношений Салтыкова к слагающейся идеологии народничества.
Дело в том, что вопрос о расколе-старообрядчестве, как историческом факте, как явлении культурном и социально-политическом, именно в эту пору начал ставиться совершенно по-иному, не с точки зрения церковно-православной и полицейской, которая видела в нем только суеверие и варварство, неразумное уклонение от государственности и культуры. Правда, бакунинская оценка раскола, как явления оппозиционного, даже революционного, противогосударственного — пришла позднее, одновременно с народническими поисками опорных географических и исторических центров, наиболее пригодных для пропаганды и для подготовки организационных баз восстания (местности широких народных движений в прошлом, развития разбоя, как социального явления, казачьи районы, раскольничьи, сектантские). Но научная и публицистическая подготовка шла уже и в эти годы (Щапов, Кельнев, интерес к расколу у Герцена); наблюдалось оживление и в самих старообрядческих кругах, в связи и под влиянием создания новой третьесословной общественности. И простая «этическая» отписка — «не делает ему (Салтыкову) чести» — не делает чести и исследовательскому чутью Иванова-Разумника.
Нужно было поставить вопрос, не изменилось ли у самого Салтыкова в результате его следовательской работы понятие об «истине», которую он так старательно разыскивал в качестве исполнительного чиновника. Надо думать, Иванова-Разумника смутила мало соблазнительная в «этическом» плане однотипность работы Салтыкова с работой знаменитого гонителя раскола, разорителя заволжских скитов, Мельникова-Печерского, даже их некоторое сотрудничество. Но испуг этот совершенно напрасен. Ведь в лице автора «В лесах» и «На горах» мы знаем не только исполнительного чиновника, но и идеолога того дела, которое он охотно и старательно выполнял. Для него казенное православие было далеко не так безразлично, каким оно было для Салтыкова, во имя этого православия Мельников не только за страх, но и за совесть зорил скиты, запечатывал иконы, выгонял с насиженных мест скитников и скитниц. Более того, в свою работу он вносил и некоторые начала административного восторга, если не сказать более. Мне в начале XX в., в моих скитаниях по Руси после 1905 г., пришлось слышать на Керженце о двух «святых» подвижниках лесного, скитского старообрядческого благочестия, которых обратил на путь «истины» «старой веры» не кто иной, как сам П. И. Мельников, Крестьяне, православные, они возили Мельникова по скитам во время его работы. И метод действия Мельникова произвел на них такое потрясающее впечатление, что они перешли в раскол и в лесном отшельничестве, на местах разоренных скитов, дошли до «свЯ-тости». Полагаю, нет никаких оснований беспокоиться за моральный облик великого сатирика только потому, что однажды его жизненные пути перекрестились с путями одного из наиболее ярких представителей казенной идеологии православия, самодержавия и «народности» середины XIX века. Нужно было внимательнее исследовать и в этой области сдвиги настроений, возможные изменения в миросозерцании Салтыкова, посмотреть, не происходило ли и здесь оформление его, допустим, как «народника», а не спешно спасать снисходительным осуждением от осуждения сурового.
Стремление к этическим суждениям и оценкам абстрактного порядка, вне серьезного изучения реальных исторических отношений, приводит и в других случаях Иванова-Разумника к таким выводам и заключениям, которые являются только помехой к правильному истолкованию тех или иных явлений. К таким «этическим» суждениям относится, например, его конечное заключение о ранних повестях Салтыкова-Щедрина («Противоречия», «Запутанное дело»): «В этих социальнопсихологических повестях отражалось определенное мировоззрение, основы которого прошли через все творчество Салтыкова. Пусть это были лишь „дворянские мелодии“…, но и в дворянских мелодиях этих была общечеловеческая правда (курсив мой. В. Д.), которую проявлял в своих произведениях Салтыков до конца своего творческого жизненного пути». На счет повышенного интереса к этическому критерию нужно, вероятно, отнести и своеобразный чрезмерный биографизм в понимании отдельных моментов творчества Салтыкова. Сам Салтыков говорит об одном из ранних вариантов своего образа женщины-кулака (Марье Ивановне Крошиной из повести «Противоречия»): «такой тип женщины-кулака встречается весьма часто и особенно в провинциях, где жизнь женщины исключительно сосредоточена в узеньких рамках фамильных ее отношений»; а Иванов-Разумник неоднократно и настойчиво повторяет, что «женщина-кулак» (и в «Пошехонской старине», и в «Господах Голавлевых») списана с Ольги Михайловны Салтыковой, матери сатирика.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: