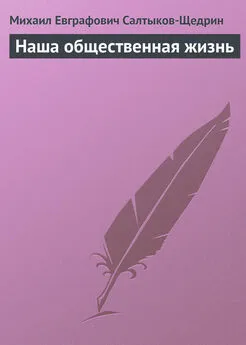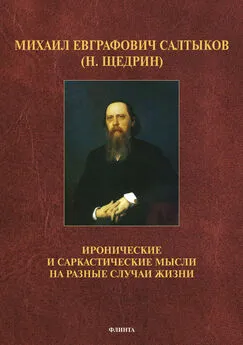Р. В. Иванов-Разумник - М. Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество
- Название:М. Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ИЗДАТЕЛЬСТВО ФЕДЕРАЦИЯ МОСКВА 1930
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Р. В. Иванов-Разумник - М. Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество краткое содержание
Настоящее ФИО: Разумник Васильевич Иванов. Русский критик, мыслитель. Был близок к левым эсерам, активно поддержал Октябрьскую революцию. В 1918 году оказался «левее Ленина», категорически не приняв Брестский мир. В последующие годы неоднократно подвергался арестам. Известен своей редакторской деятельностью: издания Панаева, Белинского, Ап. Григорьева, Салтыкова-Щедрина и других. В 30е годы подготовил собрание сочинений Александра Блока.
М. Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Еще теснее она в третьем из этих очерков весны 1862 года — в очерке „Глупов и глуповцы“, опубликованном только в наши дни. Очерк этот не только центральный для всего цикла, но вероятнее всего, что по нему и весь цикл должен был получить свое заглавие, а самый очерк предназначался быть вступлением к нему. По крайней мере, именно в этом очерке намечается введение к теме „глуповское возрождение“, которая развивается с такой подробностью во всех других очерках этого цикла. Попутно ставится вопрос — „что есть Глупов?“ и разрешается в том смысле, что Глупов реально не связан ни а одним из городов, но связан со всеми с ними вместе. Отсюда — иронически продолжает сатирик — может возникнуть мысль, что Глупов есть „нечто обширнейшее“; но, явно издеваясь над цензурой, сатирик ставит на вид читателям, что „такое предположение меня огорчает“… Что Глупов есть Россия — было ясно для читателей; а для цензуры Салтыков сообщал: „Глупов есть Глупов: это большое наведенное место, которого аборигены именуются глуповцами“… Далее в столь же иронических тонах описывалась география и топография Глупова, при чем по-прежнему (как и в очерке „Наши глуповские дела“) утверждалось, что „истории у Глупова нет“. Но тут же вскрывалось тождество между Глуповым и Россией фразою — „глуповцы некогда имели торговые сношения с Византией“, фразою, перешедшей впоследствии в „Историю одного города“. Население Глупова, рассказывается дальше в этом очерке, состоит из уже знакомых нам Сидорычей и Иванушек; о Сидорычах и повествуется в дальнейшем изложении очерка. Так как он не увидел в 1862 году света, то Салтыков в следующем году перенес ряд мест из него (о Сидорычах за границей) в очерк „Русские „гулящие люди“ за границей“, позднее вошедшем в цикл „Признаков времени“ (1869 г.). Приходится только сожалеть, что Салтыков в свое время не мог напечатать очерк „Глупов и глуповцы“ и назвать его именем весь стройный по мысли и цельный по выполнению глуповский цикл, который ему пришлось годом позднее разбить на две отдельные книги „Сатир в прозе“ и „Невинных рассказов“.
Остается сказать о двух последних очерках этого цикла — об очерке „Наш губернский день“, напечатанном в сентябрьской книжке „Времени“ за 1862 год, и очерке „После обеда в гостях“, появившемся уже в 1863 году, в мартовской книжке „Современника“. В одной из следующих глав еще будет указано, что в мае 1862 г. „Современник“ был приостановлен правительством на восемь месяцев за вредное направление; Салтыкову пришлось поэтому напечатать один из очерков глуповского цикла в журнале Достоевского „Время“. Глуповский цикл заканчивался автором в 1862 году, и хотя последний из этих очерков, как мы только что видели, был напечатан Салтыковым уже весною 1863 года, но написан был значительно раньше и тесным образом связан с предыдущим очерком, напечатанным во „Времени“. В этом убеждает нас сохранившийся автограф „Нашего губернского дня“, представляющий собою на 14 листах расширенную редакцию текста, со включением в него и очерка „После обеда в гостях“ [169] Бумаги Пушкинского дома, из архива Стасюлевича. Очерк «После обеда в гостях» является здесь третьей главкой рассказа «Наш губернский день» и носит заглавие «Перед вечером». Главка эта, очевидно, не была разрешена цензурой в виду того, что там в ироническом тоне выведен «наш глуповский штабофицер», жандармский полковник
. Таким образом оба эти очерка были написаны еще летом 1862 года и представляют единое целое, заканчивающее собою весь глуповский цикл.
Оба очерка посвящены одной и той же теме — растерянности провинциальных властей перед новыми реформами, ставшими неизбежными после освобождения крестьян. „Откупа трещат“, — слышим мы испуганные возгласы действующих лиц первого очерка, — вводятся „независимые учреждения“, открывается „гласное судопроизводство“: и действительно, 1862 год был годом кануна последних реформ этой „эпохи возрождения“. Сидорычи и Трифонычи, либералы и ретрограды, взволновались настолько, что трудно стало уловить разницу между ними. „Чего хотят ретрограды, чего добиваются либералы — понять очень трудно. С одной стороны, ретрограды кажутся либералами, ибо составляют оппозицию; с другой стороны, либералы являются ретроградами, ибо говорят и действуют так, как бы состояли на жалованья. Повторяю: понять очень трудно… Скажу одно: если гнаться за определенными, то первую партию всего приличнее было бы назвать ретроградною либералией, а вторую — либеральною ретроградней“. Неудивительно, что при подобном отношении к провинциальным политическим группировкам, Салтыков в первом очерке сцену примирения их представил в виде пародии на примирение гоголевских Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича. Сатирик полагает, что обывателям волноваться совершенно не из-за чего, ибо все реформы сведутся в конце концов лишь к перемене местами обеих группировок. „Трифонычи сменяют Сидорычей, Сидорычи сменяют Трифонычей, — вот, благодарение богу, все перевороты, возможные в нашем любезном отечестве. Если такая перетасовка карт может назваться переворотом, то, конечно, нельзя не согласиться, что он совершается и на наших глазах. Пожалуй, можно сказать даже, что в настоящее время он совершается сугубо, потому что на место старых и простых Трифонычей поступили Трифонычи молодые, сугубые, махровые“. Такое положение дел приводит сатирика к вопросу, следует ли из этой перетасовки заключать, „что на том месте, где ныне стоит любезное отечество, будет завтра дыра?..“.
Все это как нельзя более типично для характеристики отношения Салтыкова к этой „эпохе великих реформ“. Впоследствии, и даже очень скоро, когда восторжествовала реакция, ему приходилось иной раз вспоминать о шестидесятых годах, как о светлом времени надежд, хотя бы и не осуществившихся; но самые эти годы он переживал как путаную эпоху „глуповского распутства“, не сулившую в будущем ничего кроме „дыры“. В конце очерка „Наш губернский день“ он характеризует эти реформы, как безобидную смену Ивана Петровича Петром Иванычем, подчеркивая, что смена лиц не является сменою систем. В этом месте сатирик несомненно имел в виду ту чехарду министров, которая происходила как раз в 1861–1862 гг.: в апреле 1861 года на место Ланского министром внутренних дел был назначен Валуев, в декабре на место гр. Путятина министром народного просвещения был назначен Головнин, в январе 1862 г. на место Княжевича министром финансов был назначен Рейтерн. Смена этих лиц, разумеется, ни в чем не изменяла системы управления, так что и Сидорычи и Трифонычи напрасно боялись реформ и напрасно провинциальная бюрократия стояла в растерянности перед ними. Такова тема первого из этих двух заключительных очерков глуповского цикла.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: