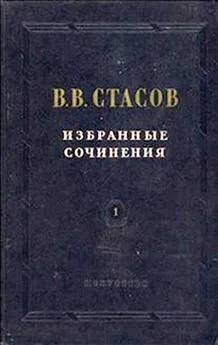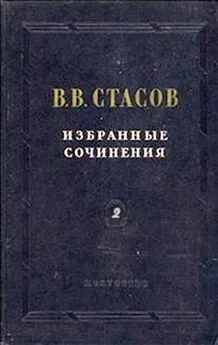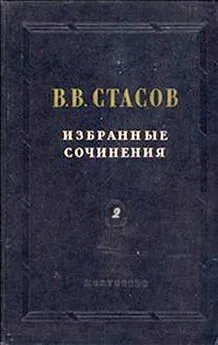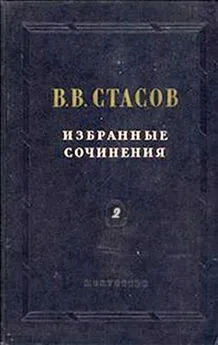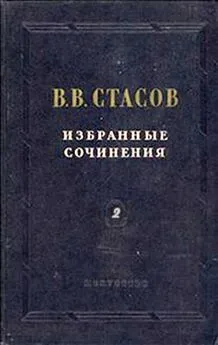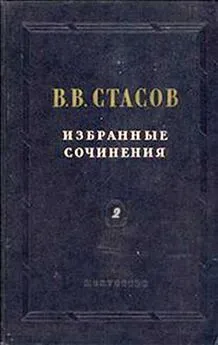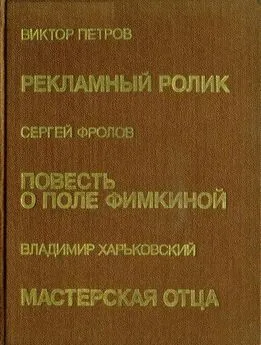Владимир Стасов - Мастерская Верещагина
- Название:Мастерская Верещагина
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Государственное издательство Искусство
- Год:1952
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Стасов - Мастерская Верещагина краткое содержание
историк искусства и литературы, музыкальный и художественный критик и археолог.
Мастерская Верещагина - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Я прохаживался по громадной мастерской Верещагина, я любовался на чудное его собрание индийских этюдов, я радовался, что у нас есть такой художник. Но, среди всего этого, меня более всего тревожил вопрос внутри меня: „А последняя война? Где же она у Верещагина? Неужели он оставил ее на далекий план и знать ее более не хочет?“.
Но скоро потом я очутился в одном маленьком отделении большой мастерской, отделенном от главного пространства железной стенкой во всю вышину здания, — и тут я ахнул, более чем перед всем остальным, что только я видел до сих пор у Верещагина.
Верещагину еще не прислано из Болгарии все то, что он там написал во время войны. Есть даже опасность, что целая партия его этюдов (и даже частью наиважнейших) затерялась или куда-то, неизвестно, задевалась при пересылках и переправках недостаточно надежными личностями. Но даже и то, что я видел теперь, сразу привело меня к убеждению, что никогда ничего важнее и лучше этого Верещагин на своем веку не делал.
Всякий, кто читал газеты в прошлом году, помнит, я думаю, что при первом же пушечном выстреле болгарской войны Верещагин бросил и Париж, и свою мастерскую, и индийские этюды и картины и поскакал на Дунай. Мне кажется, все знают, что с ним там было и как он делал наброски сражений, переходов, всего совершившегося перед глазами под пулями, ядрами и гранатами. Теперь я увидел эти наброски. Их около сорока.
Это все были маленькие деревянные дощечки, с натянутыми на них холстиками, из которых самые большие вершков по пяти, по шести, но есть тоже и такие, что не более одного вершка ростом, и, при первом же взгляде на эти дощечки видишь, когда и как они были писаны, в какие минуты ходила по ним кисть. На них горит огонь пламенного одушевления, ясно видишь, что поэтическая или грозная минута была выбрана в одно мгновение ока и запечатлена навеки огненною, страстною кистью, в короткие минуты, когда ядра и бомбы давали покой и возможность. Какая верность тонов и планов, намеченных разгоряченною, пламенеющею душою! Какие удары кистью, решительные и мгновенные, без поправок и дополнений, подобные верным скачкам, совершаемым через пропасти в минуты беспредельной опасности, когда преследование и смерть гонятся сзади и уже близко настигают, и вместе какая гармония и талант общего!
Я подобных набросков, подобных этюдов под ядрами не видал еще ни у кого во всей живописи, с тех пор как она существует.
Чудесны туркестанские и индийские картинки Верещагина, великолепны золотые краски и яркий блеск южной природы, но еще поразительнее мне показались теперь пустынные поля и горы, где толстые слои снега истоптаны тысячами русских и турецких шагов. Несколько десятков картинок — все только серых и белых, все только снег, да туман, да облака, да жидкие ряды деревьев, и, однакоже, какая у Верещагина вышла цепь колоритных разнообразных сцен и что за tour de force, целая картинная галерея из одного снега и белой краски. Такой смелой пробы не покажет ни одна школа живописи. Никто еще не осмеливался быть так дерзок и правдив. Национальнее и проще этого, право, кажется, ничего не найдешь ни у какой нации. Переход отряда, тянущегося по горам тоненькой черной ниточкой, длинный ряд телег на волах с наваленными ранеными, отчаянно или покорно глядящими, только что раскинутые на стоянке палатки, воткнутый в снег на быстром проходе крест над погребенным тут сейчас товарищем, перестрелки и бомбардировки, слетающиеся над покинутыми телами вороны, усеянные трупами безмолвные дороги, десятки других еще сюжетов, которых и не перечтешь, с каким все это мастерством, поэтичностью и красотою схвачено молнией и напечатлелось навсегда у Верещагина. У каждой картинки свое настроение, свой характер, и, глядя на них, забываешь, что всюду один и тот же белый или серый снег: кажется, что тут целая гамма тонов, богатая и разнообразная, — столько различных настроений духа и порывов душевных водило твердою рукою художника.
Верещагин начал уже писать в большую величину несколько картин со своих маленьких набросков. Часть нынешнего лета пошла у него на эту работу. Когда погода позволяет, он пишет прямо на чистом воздухе, в „летней мастерской“, состоящей из помоста, сажень в 9-10 в диаметре, представляющего в плане полный круг. Тут по окружности положен рельс, и по нем ходит довольно объемистая будка, защищающая от лучей солнца и ветра; там помещаются модели, разные предметы, с которых пишется картина, и, на необходимом расстоянии, сам художник со своим холстом. Смотря по положению солнца и по надобностям освещения навес этот может переезжать по своим рельсам куда надо, а художник — работать от самого утра и до поздней ночи. Что касается до вещественной обстановки картин, Верещагин все до последней мелочи пишет с натуры. Как прежде из Ташкента и Индии им был привезен целый музей всевозможных предметов бытовой жизни, так и теперь из Болгарии и Турции он привез с собою огромную коллекцию одежды, оружия и всяческих предметов, могущих войти в состав будущих картин. Даже есть у него в музее чучелы орлов, ворон и других хищных птиц, нарочно устроенные по его указанию в позах, какие понадобятся в сценах его картин.
Уже сцены эти начинают явственно выступать на холстах, одни набросаны еще только мелом в одних контурах, другие проложены в красках, иные уже сильно подвинуты вперед, и всякому, кто бы взглянул на этот новый ряд картин, на эту еще новую верещагинскую галерею и коллекцию, нельзя, кажется, сомневаться, что здесь готовится ряд chefs d'oeuvres'ов, будущая честь и слава русской живописи. На мои глаза, национальность и смелость передачи „обыденнейших“, простейших сцен и подробностей жизни не шла дальше в нашем искусстве, и ни у кого из наших пейзажистов никогда еще не была выражена с большею правдою наша родная славянская серенькая, хмуренькая, маловзрачная природа и день. Но зато какое поэтическое представление, какая родственная каждому из нас, близкая нота извлечена тут из этого света, и насупленные погоды, и полумрак, и пустынности. Это все звучит, как народная песня, и никакие самые лучезарные красоты Кашмира и Индии не способны доходить так глубоко, как эти зимние и осенние тоны, до нашего чувства и понятия.
Из всех начатых теперь, пока, у Верещагина картин меня поразила и захватила всего более та, что у него называется: „Дорога близ Плевны“. Тут, как и во всех остальных картинах, зима на сцене, талый снег, весь изборожденный десятками тысяч шагов, копыт и колес. Дорога идет в гору и несколькими зигзагами уходит влево, в угол картины. Из груд снега поднимаются телеграфные столбы со своими железными нитями, усыпанными снегом и усеянными приютившимися, как на насесте, птицами. Везде пустыня, унылое молчание, серый дневной свет. Ни одного живого существа нигде, только каймой по сторонам дороги лежат турецкие трупы, изрубленные, исстрелянные, валяющиеся, как поленья, ничком, боком, запрокинувшись или размахнув в последнем вздохе руки. Нельзя никакими словами рассказать тот аккорд ощущений, то настроение, которое дает эта суровая, чудесно поэтическая, шевелящая все нервы душевные картина. И какая живописность, какая мрачная красота во всем, и в могучих линиях и в еще более могучих красках!
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: