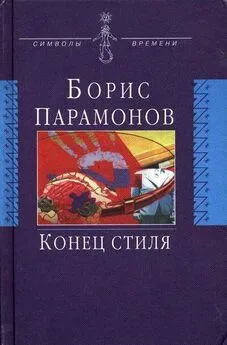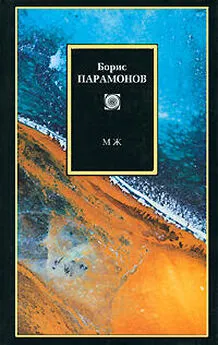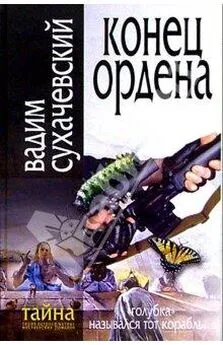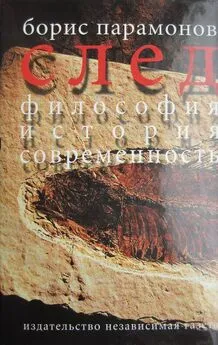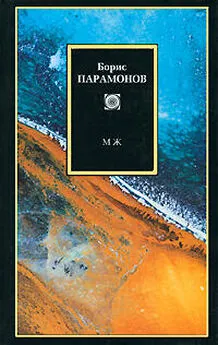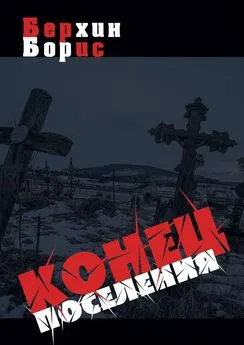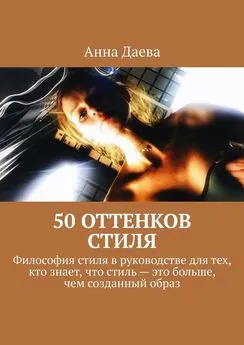Борис Парамонов - Конец стиля
- Название:Конец стиля
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Аграф, Алетейя
- Год:1997
- Город:Москва
- ISBN:5-7784-0034-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Парамонов - Конец стиля краткое содержание
Парамонов Борис Михайлович — родился в 1937 г. в Ленинграде. Закончив аспирантуру ЛГУ, защитил диссертацию на тему «Достоевский и поздние славянофилы», преподавал философию. После изгнания из университета, в 1979 г., уехал в Италию. С 1980 г. живет в Нью-Йорке. Ведет постоянную рубрику на «Радио „Свобода“». Печатался в основных эмигрантских изданиях.
Автор — блестящий стилист, один из самых оригинальных и острых современных мыслителей. «Конец стиля» — первая, выходящая в России книга, включающая в себя основные сочинения Бориса Парамонова, составлена непосредственно автором.
Все тексты публикуются в авторской редакции.
Конец стиля - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
При этом трудно воздержаться от восклицания: долой искусство, если для его взлетов, требуется трагедия — трагедия, порождающая музыку. На вопрос, что предпочтительней: книга «Архипелаг ГУЛАГ» или общество, не знающее лагерей, — невозможно дать два ответа.
Но Карел Чапек нашел третий: он умер. Смерть Чапека по-своему гениальна, как уход Льва Толстого или смерть Блока. Он не мог «продолжать играть в мяч» — позиция, требуемая культурой. Об этой смерти также можно сказать: жил как человек, умер как поэт. И больше: он умер и за других, за чехов, за нацию жизнеспособных Швейков. Искупительная жертва, персонификация трагедии народа, не желающего примириться с трагедией, артикулировать ее. Смерть Чапека подняла его и над демократией, и над культурой. Это была дань, наконец-то выплаченная им большому миру и жестокому веку.
СОЛДАТКА
У Цветаевой, сдается, легче понять самый трудный текст, чем основополагающий биографический сюжет — факт ее самоубийства. Этого факта не должно было быть, он не укладывается в наше представление о Цветаевой, в ее «эйдос»: именно потому, что — факт, даже, если угодно, — «быт»: быт небытия. Цветаева быта не замечала, быта для нее не было, быт и был — небытие. Факт — не истина, это знают все философы-идеалисты. У Цветаевой же и никакого «идеализма» не было, важнейшее впечатление от нее — необычайная, из ряда выходящая жизненная, бытийная сила. «Сверх-сила», как предпочитала говорить она сама. Это сила, порождающая факты, а не зависимая от них. Даже кровопускание было для нее жизнью: какое уж тут самоубийство. «Вскрыла-жилы: неостановимо, невосстановимо хлещет жизнь». Жизнь — восстанавливалась в этой отдаче, в потерях и разрывах (десятки текстов, которые неуместно цитировать, настолько они хрестоматийно известны). Кровопускание и было жизнью. И эта бытийная сила давала ей силу не замечать быта и фактов. Житейские трудности — не цветаевский сюжет. Сюжет у нее один: «стол» — стихи, перо и бумага; бумага — простейшая, грубейшая, наждачная, ею одной можно было шкуру ободрать кому угодно. Не было даже людей: «сей человек был — стол». Были — «любви»: некие солнечные взрывы, превращение водорода в гелий. «Человек» — всегда и только! — сочинялся, это опять же было творчество, стихи, поэзия. Но как человек в действительности рождается не от стихов, а в некоем животном акте, так и стихи Цветаевой меньше всего были «стихами»: это был животный акт. «Я не более, чем животное, кем-то раненное в живот». Цветаева — тяжеловес-десятиборец, олимпийский боец. Ее стихи — циклопические сооружения, ворочание камней, соединяемых в некоей грубой гармонии. В сущности, это своего рода «дыр, бул, щил» или, скажем, Тредиаковский; в любом случае — нечто архаическое (футуризм — архаичен). Не Аполлон Бельведерский, но «курос». Не Афродита, но Артемида. Впрочем, образ бойцовой богини несколько снижен, переведен в героини: амазонка. Явная бисексуальность Цветаевой (смотри хотя бы «Письмо к амазонке») менее всего ассоциируется с сексом. Это односторонний акт некоего присвоения. Сонечка для нее — она же, но данная объективно, как предмет, «представление». А Цветаева была — Воля. И если продолжить шопенгауэровские ассоциации, то в этой Воле — в ее воле — не было никакого порыва к «самосознанию», каковое самосознание должно приводить к отказу от себя, то есть к тому же самоубийству. Воля оставалась слепой; слепая сила всегда кажется «сильнее», да и есть, у Шопенгауэра, сильнее. Цветаевой не могло наскучить созидание образов бытия актом миротворящей воли. Тогда почему все же самоубийство?
Здесь — цитата, из прозы о Брюсове: «единственный выигрыш всякого нашего чувства — собственный максимум его». Самоубийство ее было — захлеб жизнью, попросту — подавилась; то, что по-английски называется choking. Заглотнула слишком большой кусок. Чрезмерность — в ее стиле. Бытийная жадность: все впитать, все, попросту, — съесть. Возникает мифологический образ Природы как порождающей — и пожирающей! — Матери. «Могла бы — взяла бы в пещеру утробы».
Эта «мать» — матерь, материя — ощущается еще в девочке. Собственно, слово «девочка» в высшей степени неуместно. Ничего детского, ангелического: ребенок как сильное и злое существо, дикий зверь, он орет и пинает няньку ногами. В статье о детской литературе в СССР она то же выразила по-другому: ребенку какие-нибудь столярные поделки интереснее ангелов. Поразительно ее воспоминание о музыке: как ей хотелось играть — ногами, благо умела разводить ножные пальцы чуть ли не на октаву. О Цветаевой все время хочется так говорить — в плотяных, плотских терминах, да она и сама так говорила: «лбом, локтем, узлом колен». Никаких ланит и персей, скорее уж детали машин. Ничего не только банально «детского», но и «девического», будто сроду не было «девственной плевы». У зверей ее и не бывает. От зверя — сила в соединении с точностью, безошибочностью движения: инстинкт, генетика. Не «гений», а «мускул», как сама написала о Пушкине. Стихи идут — снизу, это даже не «трава» Пастернака, а некая преисподняя. Все великие так пишут. Гамлет укоряет Гертруду Клавдием: «Как вы могли спуститься с горных пастбищ к таким кормам?» Гениальность этих слов — в переведении людских отношений в грубо физический, животный план, в уподоблении любви выгулу скота. Но для Цветаевой «корма» — главное, и недаром у нее королева правее Гамлета. Возьмите ее «Магдалину», в которой усматривают христианскую сублимацию любви: у нее не Христос с Магдалиной разговаривает, а фаллос с вульвой: «В волосах своих мне яму вырой, спеленай меня без льна. Мироносица, на что мне миро, ты меня омыла, как волна». Сакральные масла предстают телесными выделениями, секрецией, секретом бартоллиниевых желез. И поэтому — никакой морали. «Жизнь выше морали» — это уж точно о Цветаевой сказано. И поэтому же — невозможность числить ее по разряду не только изящной словесности, но и культуры. Культура вся — условность, конвенция, знак и этикет. Тут Барт вспоминается: поэт ищет не тайну слова, а тайну вещи. У Цветаевой же само слово вещно (= веще). Не «логический абстракт», а «порождающая модель». Ее стихи — «философия имени», Каббала. Первоначальная сила слова как заклятия. «Поэзия заговоров и заклинаний». В этом контексте Цветаева — ведьма. Впрочем, она предпочитала другое слово: сивилла. «Сивилла: ствол», «сивилла: зев». Это не столько Овидий, сколько Мефистофель на Брокене, толкующий ведьме о расщелине и коле. То же — у Цветаевой: «Я любовь узнаю по щели, нет, по трели всего тела вдоль». Срамная щель Марины Цветаевой. Срам как источник красоты, мощи — мощной красоты.
Отсюда — основные мысли трактата «Искусство при свете совести». Собственно, мысль только одна: идите вы все со своими совестью и светом. Все важнее нас, поэтов, но мы не существуем среди «всех», среди среды. Среда есть посредственность: медиация, отношение, социальность. Поэт же — не только внекультурен и внеморален, но и асоциален. Поэт самодостаточен, как Бог Спинозы. Среда поэта — стихия. Он сам стихия, если угодно — стихийное бедствие.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: