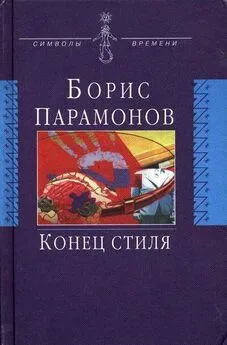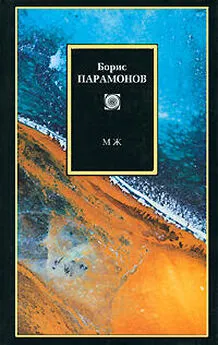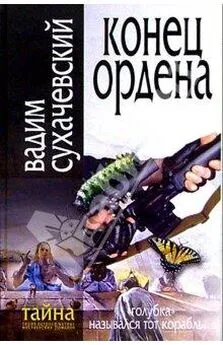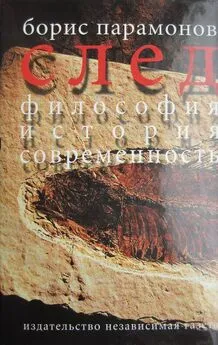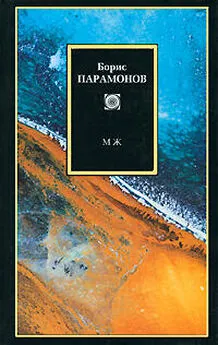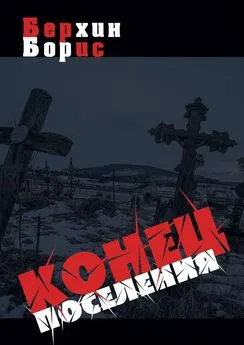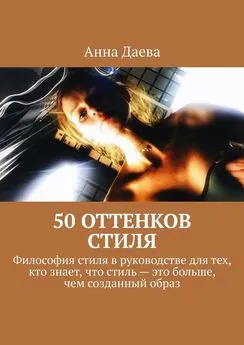Борис Парамонов - Конец стиля
- Название:Конец стиля
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Аграф, Алетейя
- Год:1997
- Город:Москва
- ISBN:5-7784-0034-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Парамонов - Конец стиля краткое содержание
Парамонов Борис Михайлович — родился в 1937 г. в Ленинграде. Закончив аспирантуру ЛГУ, защитил диссертацию на тему «Достоевский и поздние славянофилы», преподавал философию. После изгнания из университета, в 1979 г., уехал в Италию. С 1980 г. живет в Нью-Йорке. Ведет постоянную рубрику на «Радио „Свобода“». Печатался в основных эмигрантских изданиях.
Автор — блестящий стилист, один из самых оригинальных и острых современных мыслителей. «Конец стиля» — первая, выходящая в России книга, включающая в себя основные сочинения Бориса Парамонова, составлена непосредственно автором.
Все тексты публикуются в авторской редакции.
Конец стиля - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
«Он был похож на мальчика-толстяка», — пишет Олеша об Андрее Бабичеве. Именно так: не Кавалеров, но Андрей Бабичев, не поэт, а «творец добрых дел». В отличие от Белинкова, я не стану терять пломбы от последнего определения: такие большевики в свое время были; тогда это называлось конструктивизмом и было впрямую связано с Западом. Западнический уклон в большевизме, несомненно, существовал: Бухарин со «Злыми заметками». Пьянке отказывали не только в моральной санкции, но даже и в поэтичности. Мариэтта Шагинян, примыкавшая к этим самым конструктивистам, учила радоваться жизни при виде хорошо начищенных башмаков. Из всего этого, действительно, мог бы выйти со временем какой-нибудь вполне пристойный социализм. Увы, Россия не Чехословакия. Есенин «гениальнее» Чапека. Хорошо это или плохо? Что нужнее человечеству: великая литература или пристойная жизнь? И кто решится однозначно ответить на этот отнюдь не риторический вопрос?
У Эренбурга в ранних изданиях «Визы времени», в очерках о Польше есть еретическая по нынешним временам мысль: о том, что великое искусство возможно только в большом («великом») государстве, в сущности — имперском. Краков красивей Лодзи или даже Варшавы именно по этой причине. Возражение появляется мгновенно: а Норвегия с Ибсеном, Григом и Гамсуном? Тут можно, однако, сказать если не о величии государственности, то об экстремальности природы, о пресловутых фьордах («Скандинавский альманах»!); да и не вспомнить ли о фашизме в связи с Гамсуном — не как о программе, а как о показателе неумеренности, неблагопристойности гения? Да и чеха вспомнить можно: Гашека; при всей несделанности «Швейка» вещь эта несет на себе печать гениальности — потому что Гашек, в отличие от Чапека, бунтарь, мистификатор и бродяга, а не корректный гражданин корректного демократического государства, не поклонник президента Масарика, а коммунист.
Швейк, в основе, такой же здравомыслящий чех, как и писатель Карел Чапек; но это национальное качество доведено в нем до абсурда, до юродства, до провокации. Швейк выделен и подчеркнут, заострен и гиперболизирован, поэтому он уже не «характер», а миф. А Чапек мифов делать не умел и, следовательно, не желал (это вот и есть возведение нужды в добродетель). У него есть цикл под названием «Апокрифы». Название это обманчивое. С апокрифами мы связываем представление о ереси, а с ересью — гениальность; у Чапека все наоборот. Он здесь переосмысливает великие мифы, пытаясь в сказке обнаружить реалистическое зерно, «психологию», в поэзии ищет прозу, и когда ему удается это — торжествует победу. Главными героями в апокрифах Чапека оказываются не Христос, а Пилат, не Мария, а Марфа. И в этой установке на «прозу» чувствуется даже что-то дерзкое. Во всяком случае, она вызывает уважение.
О циклах Чапека вообще. У него все было «собрано» еще при жизни; а то, что еще не издавалось отдельно, лежало в аккуратных папках с соответствующей надписью. Работа душеприказчикам оставалась минимальная. Тысячи газетных фельетонов были распределены по рубрикам, и каждая рубрика — книга: о погоде, об огороде, о грибах, о собаках, о людях, о вещах Все это написано чрезвычайно — другого слова здесь не найти — мило, а еще более мило собрано в пачки и перевязано ленточками. Читая Чапека, вы улыбаетесь, и в то же время вам хочется разбить что-нибудь стеклянное. И не за дурацкую страну Россию обидно — вот, дескать, живут же где-то люди, — а за человека, за венец создания: неужели эти аккуратные газетные вырезки — все, что принесли с собой так называемые культура и прогресс?
Конечно, возможна и другая точка зрения, и ее как раз выбрал Чапек: ироническое умиление, «игра с котенком»; самого себя осознать как вот такого культурного котенка. Но это — априорное смирение, радостно принимаемая второразрядность, готовность примириться с судьбой маргиналии и детали. Скажем так — культурная провинция. Для русских это в некотором роде — contradictio in adjecto [13] Противоречие между определяемым и определением (лат.).
и в то же время недостижимый идеал: понятная мечта жителя великодержавного Череповца о чешском пиве; но если этого пива — залейся, то неужели можно на том и успокоиться?
У нас ведь тоже, если поискать, были певцы этой обыденности и провинциальности: Розанов, конечно. Но в том-то и дело, что провинцию он любил и восхвалял как раз «некультурную», с грязцой и домостроем. Удивляясь, почему в России все аптекари — немцы (еще не евреи!), Розанов тут же находил объяснение: где надо капнуть, там русский плеснет. А чехи преподавали латынь и греческий, и «классики» всех Череповцов и Таганрогов почесывали поротые задницы. Культура внедрялась — по Лескову — бойлом. Уверен, что Чапек с удовольствием изучал ту же латынь. А Чехов над ней справил все-таки издевательский триумф: de gustibus aut bene aut nihil. [14] Пародийное смешение двух латинских пословиц: de gustibus non est disputandum (о вкусах не спорят) и de mortuis aut bene, aut nihil (о мертвых или хорошо, или ничего).
Одна из характернейших вещей Чапека уже своим названием являет некий манифест: «Обыкновенная жизнь» (в сущности, это чешский, то есть благополучный, вариант «Смерти чиновника»). Как и положено добротному провинциалу, Чапек воспроизвел очередную столичную новинку (на этот раз — унанимизм). Но есть здесь и нечто органическое: апофеоз обыденности, малости, тупиковости. Сделано это опять-таки чрезвычайно культурно: конечно же, Чапек обнаружил в добропорядочной жизни анонимного чиновника второй, и третий, и десятый план. Не обошлось без Фрейда: в детстве герой предается тому, что в психоанализе называется «сексуальные исследования», а потом испытывает желание задушить собственную жену. В одном месте даже говорится, что в жизни ему не хватало вшей. Но как все это примирено, какой всему этому дан «синтез»! Примирено тем, что все люди такие — с двойным и тройным дном. Конечно, это «мудро». Жить с таким сознанием удобно. Но книга, воспевающая посредственность, и сама получилась какой-то воинствующе посредственной. Получилась — самопародия.
Никто не будет отрицать у Чапека ни таланта, ни остроты видения. Раздражает в нем — и одновременно умиляет — оптимизм. Это он, можно сказать, придумал выражение «все к лучшему в этом лучшем из миров». Короче говоря, он верит в прогресс: необходимое слагаемое демократического мировоззрения. Однажды Чапеку удалось написать вещь действительно острую — «Из жизни насекомых». Но он не был бы самим собой, если б не снабдил пьесу вариантом оптимистического финала. Возьмем известнейшее и, конечно же, лучшее произведение Чапека «Война с саламандрами». Это, можно сказать, выставка его достоинств: книга чрезвычайно изобретательна в композиции и жанре, лучше сказать, она демонстрирует сразу все жанры, в которых умел работать Чапек; разноголосица остроумно мотивирована позицией архивиста, собирающего материалы по интересующему нас делу. Недостаток книги — коренной, органический, генетический — в ее, странно сказать, достоинстве: легкости, явно неуместной в момент ее написания. Всей этой культурной идиллии оставалось два-три года, а Чапек очень мило острил и улыбался при виде механизированных варваров. Каким-то образом, говоря о фашизме, Чапек этого фашизма не замечал; по-другому сказать, он гнал от себя (заклинал?) трагедию как таковую, как жанр бытия. Он умер в декабре 1938 года, не дожив до самых худших времен; и вот возникает совсем уже странное ощущение: а не была ли эта смерть (сорокавосьмилетнего человека) неким комфортным выбором?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: